
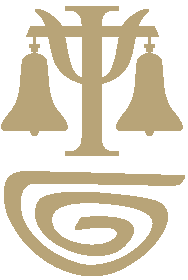
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И КОНСТИТУЦИЯ (СТРУКТУРА ПОЛИТИЧЕСКОГО)
Настоящая работа посвящена политико-правовым проблемам гражданского общества. Это означает, что в ней рассматриваются не только вопросы, которые непосредственно связаны с существованием и функционированием такого политического феномена, как "гражданское общество", но и некоторые правовые вопросы, опосредствованно связанные с общей ситуацией социальной активности в нестесненной государством среде.
Например, если существование современного гражданского общества невозможно себе представить без эффективных правовых гарантий социальных приоритетов "гражданственности", то это означает, что речь идет о конституции и конституционализме. ведь именно этот, впервые появившийся в мире в XVIII веке правовой источник прямо нацелен на поддержание прав человека и общей гражданской свободы в их взаимообусловленном противостоянии государственному патернализму и бюрократической экспансии.
С другой стороны, как показано в эссе о свободе, главной внутренней идеей гражданского общества является фундаментальная идея свободы человека. Поэтому именно категории свободы в этой небольшой книге уделено столь значительное место.
В работе также рассматривается вопрос о соотношении гражданской интеллектуальной активности и государства. Можно сказать, что речь в данном случае идет о проблеме конституционных гарантий нестесненного гражданского дискурса, общественного диалога по основным проблемам современности, который тем и ценен, что это диалог и дискурс свободной общественности, имеющей собственные, не совпадающие с государственными, интересы. Об автономности этой сферы социальной коммуникации, ее необходимых конституционных гарантиях против всевозможного официального контролирующего вмешательства говорится в предпоследней части книги.
Что же касается модельного проекта Закона Украины "О гражданском контроле за государственной деятельностью", то этот правовой документ призван продемонстрировать читателю возможности юридической институционализации приемлемого для Украины режима взаимоотношений гражданского общества и государства. Смысл данных отношений, в конечном счете, сводится к простому тезису: даже наилучшее правовое государство - это слуга, подчиненный субъект, а не хозяин гражданского общества.
Применительно к литературным источникам этой небольшой книги можно сделать лишь ту оговорку, что сравнительно обширная библиография каждого из эссе и, по возможности, скрупулезная этика цитирования призваны помочь заинтересованным читателям проще и быстрее добраться до первоисточников некоторых из высказанных и анализируемых в работе идей.
В целом книга является практическим результатом работы ее автора - докторанта кафедры конституционного права Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого (г. Харьков) над проблемой конституционных гарантий политической активности в посттоталитарных странах. Этой работе в решающей степени помогли профессиональные стажировки автора в Библиотеке Конгресса США в 1994-1995 гг. по программам международного научного обмена IREX и FULBRIGHT. В 1996-1997 гг. работа над темой была продолжена на кафедре политических наук (проф. Russell Keat) и в центре исследования социальных проблем права (проф. Zenon Bankowski) Университета Эдинбурга, что оказалось, в свою очередь, возможным благодаря финансовой поддержке украинского благотворительного фонда "Відродження", Института Открытого Общества (OSI, New-York) и Министерства иностранных дел Великобритании.
Очевидно также, что "Свобода и государство" не смогла бы увидеть свет без энтузиазма, инициативы и дружеской помощи такого "практического элемента" украинского гражданского общества, как Харьковская правозащитная группа. Именно ее сопредседателю Евгению Захарову принадлежит общая идея подготовки и практическая реализация замысла издания книги. Что же касается модельного проекта Закона Украины "О гражданском (общественном) контроле за государственной деятельностью", то эта работа была не только инициирована Харьковской правозащитной группой, но и выполнена при ее непосредственном (Евгений Захаров) участии. Особую благодарность при этом следует высказать г-ну Роману Романову (Севастопольская правозащитная группа), чьи квалифицированные профессиональные замечания по тексту законопроекта позволили значительно улучшить его юридическую технику.
Следует также добавить, что критически настроенными, но одновременно и доброжелательными рецензентами модельного проекта Закона Украины "О гражданском контроле за государственной деятельностью" выступили участники круглого стола, специально организованного для обсуждения данного модельного документа Харьковским юридическим обществом. Особую признательность за критические замечания создатели модельного проекта высказывают проф. Юрию Баулину, проф. Михаилу Сибилеву, проф. Леониду Маймескулову, проф. Юрию Битяку, доктору юридических наук Михаилу Буроменскому.
Всеволод Речицкий
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И КОНСТИТУЦИЯ (СТРУКТУРА ПОЛИТИЧЕСКОГО)
Рассмотрение вопроса о структуре политической активности является необходимым элементом исследования, поскольку конституционное регулирование политической активности осуществляется применительно к ее структурным подразделениям. Своеобразие же последних достаточно велико. Регулирование деструктивного политического поведения (например, через "право на восстание") существенно отличается от регулирования конструктивной активности. Конституционное отношение к созданию политических теорий иное, нежели к проведению политических забастовок. Массовые акции отличаются от индивидуальных политических действий, а профессиональная политическая активность от непрофессиональной и т.д.
То обстоятельство, что политическая реальность обладает структурой, замечено давно. Еще Аристотель писал, что политическое устройство есть порядок общественной жизни всех людей,[1] а у Э.Дюркгейма политический строй общества - это способ, в соответствии с которым общественные слои приспособились жить рядом друг с другом. Люди нуждаются в структурировании своей жизни, ибо жизнь, недостаточно структурированная, есть бесцельная катастрофа.[2]
Размышляя над устройством ноосферы, Т.де Шарден писал, что сознательная жизнь поднимается все более высоко лишь за счет ее структурирования. В своем подразделении обществ на открытые и закрытые Д.Сорос показывает, что открытое общество является более сложным по своей структуре, чем закрытое, поскольку оно позволяет людям разрабатывать индивидуальные стратегии, что и делает их подлинно автономными.
К.Поппер считал, что в политике вопрос о носителях власти является второстепенным по сравнению с вопросом о структурных формах осуществления власти, ибо политический прогресс можно обеспечить лишь структурно. Д.Ролз, в свою очередь, писал о структуре общества, как о способе соединения его политических, социальных и экономических институтов в систему кооперации, действующую от поколения к поколению.[3]
Политическая структурность коренится в природе человеческой деятельности, которая представляет собой совокупность "систем, фикций и тайных замыслов".[4] Для Д.Истона общество и политическая система структурны, поскольку состоят из взаимосвязанных действий групп и индивидов, осуществляющихся не в вакууме.[5]
По определению В.Аршинова, Ю.Сачкова и Ю.Климонтовича, структура есть вид организации и связи элементов системы.[6] Иными словами, структура - это каркас, внутренний скелет любой конструкции. Выявить структуру объекта - значит упомянуть его части и способы, с помощью которых они вступают во взаимоотношения.[7] При этом, если одна структура становится причиной другой, то речь должна идти о структуре активности. Именно в этом смысле Б.Малиновский писал о структуре человеческого усилия, которое "инструктировано" правилами традиции, движимо мотивом и контролируемо ценностью.[8]
В политической активности роль структуры играет функциональное предназначение отдельных видов политического поведения. Этот подход удобен и не противоречит устоявшимся способам определения структуры деятельности человека. В психологии в структуре деятельности различают обычно мотивационную, целевую, исполнительскую активность и т.д.[9] Структура связывает объект, одновременно разделяя его, подобно тому как скелет животного, связывая его органы, одновременно разделяет их функционально. Смысл структуры в том, что она обеспечивает единство композиции автономных элементов, в отличие от массы, где композиционная множественность элементов (а потому и структура) отсутствует.
Система, в основании которой лежит структура, писал К.Дойч, есть совокупность компонентов, связанных между собой таким образом, что сила их внутренней связи превосходит силу их связи с внешней средой.[10] С другой стороны, каждая часть структуры есть также индивидуальная часть, а не "сторона", не "качество", не субъект отвлеченной категоричности.[11] Структурность духовных и культурных образований в этом смысле является органической, изначальной.
Нетрудно заметить, что структурно политическая активность может быть конструктивной и деструктивной, эволюционной и революционной, векторной и хаотической, направляемой внутренними мотивами и спровоцированной извне. Политической метаструктурой выступает, например, конструкция политических процессов по Б.Мору: образование либеральной демократии через буржуазную революцию; возникновение фашизма посредством революции сверху; возникновение коммунистического режима из крестьянской революции.[12] В любом случае структура политической активности определяется потребностями дифференциации политического действия в политической системе общества, где различие между ее составляющими является существенным.[13]
В.И.Ленин писал, что характер всякого учреждения определяется содержанием его деятельности.[14] Таким содержанием определяется и структура политической активности. Демократия требует свободы, а тоталитарное правление нуждается в контроле. Выборы предполагают плюрализм, а политическое лидерство - харизму. Кроме того, структура состоит из элементов, которые всегда взаимосвязаны. По мнению А.Уайтхеда, социальный порядок общества обладает структурой, если: 1) существует некоторый общий элемент формы, проявляющийся в определенности каждой реальной сущности, входящей в общество-соединение; 2) этот общий элемент формы проявляется у каждого члена соединения благодаря условиям, налагаемым на него способностью схватывать другие члены соединения; 3) эти схватывания налагают условие воспроизведения, в силу того, что включают в себя позитивные чувства, содержащие общую форму.[15]
Еще Д.Локк говорил, что не знает в природе части столь полной и совершенной, чтобы она не была обязана окружающим ее частям своим бытием и качествами.[16] Данный принцип связывает органическую конституцию и политический либерализм не только хронологически, но и логически, т.е. структурно. Иными словами, конституция как нормативный регулятор охватывает политическую активность лишь определенного типа. Конституционные аспекты органически присущи политической активности не столько государства, сколько структурной пары: государство - гражданское общество, нуждающейся в гарантиях взаимодействия высшего уровня.
Говоря о структуре политического, П.Лебедев подчеркивал, что в политике структура играет стабилизирующую роль. Структуры редко подвергаются ревизии и коренным преобразованиям, обеспечивая, тем самым, стабильность государственного управления на протяжении жизни многих поколений.[17] Политические структуры негосударственного управления также стабильны, однако нацелены не на безопасность, порядок и защищенность, а на свободную инициативу, плюрализм и терпимость, ибо именно этими свойствами политическая активность гражданского общества существенно отличается от политической активности государства.
В тоталитарных странах спонтанная политическая активность гражданского общества носит маргинальный характер и, в целом, стагнирует, а конституции являются не более, чем декоративной правовой оболочкой порядка. Ведь тоталитаризм структурно близок порядку и основывается на презумпции единственной правды в политике, прилагаемой обычно ко всем областям жизни.[18] В демократических же странах структура политической активности нацелена на инновации и динамизм. Здесь политическая активность гражданского общества и государства составляют сложную конституционную метаструктуру, биполярную по своим приоритетам, хотя и с очевидным доминированием ценностей гражданского общества. Поэтому отобразить конституционные аспекты политической активности либерально-демократического общества можно лишь в системе двойной иерархии ценностей в материи политического. Только это позволяет корректно организовать элементы политической активности в соответствующие целям политического либерализма группировки.[19]
Следует, однако, заметить, что в традиционной картине политического поведения иерархическая структура формирует высший закон жизни.[20] У Аристотеля структурно поляризована вся политическая жизнь, и только Р.Арон впервые усомнился в том, что основу политического сообщества составляет структура власти.
У Ж.-Ж.Руссо политический организм структурен, и называется государством, когда он пассивен, сувереном, когда он активен, державою - при сопоставлении с себе подобными. Его члены в совокупности именуются народом, а в отдельности являются гражданами, как члены гражданской общины или как участвующие в верховной власти, и подданными, как подчиняющиеся законам государства.[21] У К.Кавелина царь есть само государство - идеальное, благотворное и грозное его выражение; он превыше всех, поставлен вне всяких сомнений и споров и неприкосновенен; он беспристрастен ко всем; все перед ним равны, хотя и неравны между собою.[22] По мнению Сен-Симона, народ должен размещаться "в виде пирамиды", бороться же можно лишь с изъянами ее отдельных элементов. И для Ф.Броделя не существует общества без структуры, побуждающей людей стремиться на социальный верх. Признавая, вслед за Ж.-П.Сартром, что уничтожение иерархии освободило бы людей от политической зависимости, он все же сомневался в принципиальной возможности такого уничтожения.
Тело каждой эпохи обладает иерархической анатомией, писал Х.Ортега-и-Гассет, поэтому общество является аристократическим по своей сущности, хотим мы того или нет.[23] Поскольку политическая харизма - это тяготение простых душ к выдающимся личностям, у Н.Лосского более развитые деятели стоят во главе менее развитых. Как вниз от человеческого "Я", так и вверх от него мы находим ступени организованности: совокупность "Я" образует народ (нацию, государство), народы - суть элементы человечества, входящего в единство вселенной, из чего и возникает иерархический персонализм.[24] Всюду, где есть система, должно существовать и нечто сверхсистемное, писал он.
Ч.Милош считал, что не все люди ведут борьбу за более высокое место и престиж, и потому делятся на тех, кто несет ответственность за "функционирование машины", и тех, кто наслаждается статусом безответственности.[25] Впрочем, еще у Аристотеля "прямо от рождения некоторые существа различаются [в том отношении, что одни из них как бы предназначены] к подчинению, другие - к властвованию".[26] Х.Ортега-и-Гассет делил общество на людей действия и созерцания,[27] а Э.Фромм - на тех, кому все небезразлично, и тех, кому "на все наплевать". У Т.Дезами государство подразделяется просто на активных и пассивных граждан.[28]
В вечном существовании иерархии был убежден Г.Моска. Древность традиции политического манипулирования людьми признавал и Д.Рисмен.[29] Люди истощают свой разум, изыскивая шансы к продвижению вперед, писал К.Ясперс. А.Тойнби различал политически творческое меньшинство и нетворческое большинство.[30] В более широком смысле об этом же писал Э.Хикель.[31]
У Платона разделение между правителями и управляемыми служит разделением труда, основанным на естественном неравенстве хозяев и рабов, мудрых и невежественных. У А.Зиновьева люди делятся на исключенных из активной социальной деятельности, и вовлеченных в нее,[32] а у Ч.Милоша - на тех, кто говорит, но знает мало; и тех, кто молчит, зная многое.[33] А.Богданов писал о полюсах "мысли и слова" и "мускульной работы", а Д.Дьюи - о том, что одни и те же обстоятельства делают одних людей хозяевами, а других рабами.[34] В известном смысле, на долю одной части человечества выпадает созидание мира, а на долю другой - его сохранение. Иерархическое сознание, писали В.Эфроимсон и Е.Изюмова, является порождением советской авторитарной системы,[35] однако, на самом деле оно формировалось всей человеческой историей. Политическое устройство с "балдахином единовластия наверху"[36] существует давно, и что бы не говорили по этому поводу гуманисты, общество не может существовать без иерархии и неравенства.[37]
У И.Степанова политические отношения делятся на субстанциональные (между классами, нациями и др.); субстанционально-институциональные (между народом, классами, нациями, личностью - с одной стороны, и политической системой - с другой); институциональные (внутри политической системы).[38] В структуре политической реальности Б.Курашвили усматривал проявление закона минимально необходимой централизации. В целом же, анализируемое этими и другими авторами качество структурности политической активности дает значительные объясняющие возможности в интерпретации работы механизмов конституционного регулирования.
В любом обществе соединены не только экономика и политика, социальное и религиозное, но и самые элементарные, равно как и самые утонченные проявления духа.[39] Структурность проистекает из качества сложности, поэтому там, где невозможно или затруднительно объяснить структуру и связь элементов, мы признаем особую сложность мира, писал Ж.-М.Леге. За множественностью элементов политики стоит неисчерпаемость самой реальности. Именно это обстоятельство приводит нас к неприятию тоталитаризма и интеллектуальной диктатуры. На основе неопределенности легче строить здание демократии. Если истина неизвестна никому, все имеют право ее искать. Демократия дрейфует в неизвестном направлении, но в ней, пусть и с оговорками, реализуется эвристический потенциал каждого из участников, и это способно вдохновлять общество даже в глубоком кризисе.
Поскольку эволюция любой системы ведет к увеличению количества ее внутренних элементов и связей между ними,[40] усложнение структуры демократического процесса в посттоталитарных странах является естественным. Однако, в отдаленной перспективе, такое усложнение угрожает структурным распадением общества на враждебные классы и личности.[41] Так или иначе, цивилизация Западной Европы традиционно благоприятствовала развитию в обществе многочисленных сил и иерархий, соперничество между которыми развертывалось в очень разных направлениях.
Для Ю.Липы Европа всегда была разделена на блоки, обладающие моральной исключительностью и автономным "энергетическим ритмом".[42] Плюрализм политической жизни Запада уже в средневековье приводил к тому, что люди зачастую не могли понять, от кого в политическом смысле они зависят. Многоэтажная структура политической реальности отразилась в представлении Ш.Фурье о "четырех движениях", равно как и в представлении о "четырех причинах" социальной динамики у М.Хайдеггера: 1) causa materialis (предмет, субстанция, материя); 2)causa formalis (форма или образ, приобретаемые исходным материалом); 3) causa finalis (цель действия, активности применительно к субстанции); 4) causa officiens (творящее начало, индивид).[43] У Э.Маркаряна в структуре активности присутствуют субъекты, сферы и средства деятельности, у Ф.Рудича - цели, средства и результаты,[44] у Б.Курашвили - субъект, объект и технология.
Кроме того, политическая активность векторно ориентируется то на традицию и ценности прошлого, то на будущее, открывающее новые пути для изменений и роста.[45] Д.Рисмен описал основные типы политического поведения людей в рамках подобных ориентаций. Политическая активность может быть структурной и по психологическому рисунку, выступая то как целенаправленная и стихийная, то как созидательная и разрушительная.[46] Недаром А.Тойнби верил, что и внутри обретенного единства человечество будет оставаться многообразным. У Г.Маркузе органически умиротворяющей является лишь та политическая система, которая не утрачивает своего внутреннего многообразия.[47]
Политическая активность структурна еще и потому, что люди бывают обычно враждебны в одном, и солидарны в другом отношении одновременно. И хотя им свойственно объединяться вокруг политических целей в группы, это не означает, что многообразие политических целей тем самым как-то ограничивается. Ведь политика - это множественные отношения даже внутри отдельно взятого человека.[48] Поэтому не удивительно, что структура политического имеет сложный генезис. Адекватно или неадекватно отражаясь в конституциях, она не всегда помещается в пределах того или иного национального правового поля.
Выходя за пределы регулятивных возможностей национальных правовых систем, современная политическая реальность отражается в публичном международном праве[49], проявляется на уровне национальных органических кодов политической активности непосредственно. По мнению О.Тоффлера, нормативный код как совокупность крупномасштабных органических принципов и правил пронизывает активность всякой цивилизации как ее повторяющийся дизайн.[50] Г.Моска в близком к этому смысле писал, что каждая эпоха и век имеют собственный "набор идей и верований", влияющих на механизмы политического сосуществования.[51]
Каждая национальная общность и каждое государство, утверждал О.Гирке, структурируются под влиянием не только качественных особенностей их членов, но также и под воздействием особенностей их территории.[52] Формы правления естественно различаются в зависимости от размеров, жизненных форм и привычек разных народов, считал А.Фергюсон.[53] В близком к этому смысле Д.Истон говорил об интеллектуальной, информационной и культурной основе общества,[54] а М.Крюгер - о его "нормативной структуре", развивающейся в скрытых политических формах и первоначально проявляющейся в "привычках души" (А.Мицкевич) - отношениях, хотя и не заключенных в рамки юридических правил, но эти правила конституирующих.[55] Примечательно, что и для С.Вейль "структура человеческого сердца - реальность среди реальностей мира, такая же, как траектория небесного светила".[56] В.Соколевич в сходном значении писал о предконституционной нормативной платформе, образуемой социальными связями, общественным сознанием и национальными историческими традициями.[57]
Сегодня мы вполне определенно можем говорить о структурных кодах западноевропейской, американской, восточноевропейской, центрально-европейской и других менее крупных политических цивилизаций, более или менее отраженных в текстах писаных конституций. По-видимому, существуют также автономные политические коды стран, входивших прежде в состав СССР. Собственно говоря, распад последнего есть лишь еще одно тому подтверждение.
О.Тоффлер считал, что каждая цивилизация имеет собственную структуру распределения власти между классами, расами, регионами и полами,[58] а М.Мид и Р.Бенедикт доказывали, что культуры обретают структурную неповторимость, по-разному оценивая отдельные стороны человеческой личности.[59] У В.Соловьева структурные различия Востока и Запада объясняются тем, что восточная политическая культура возникла на основе родового быта, а западная - под преобладающим влиянием быта дружинного. Из этих предпосылок и возникли, по его мнению, восточная монархия и западная республика, как правление свободных людей.[60]
Анализируя политическую структуру советской перестройки, С.Шаталин отмечал в ней одновременное присутствие элементов византийских, французских и американских политических систем.[61] Как известно, Янь Цзяцы выделял четыре политических типа структурной организации общества в ХХ в.: автаркическое ("картофельное"); пирамидально-административное; правовое общество; общество высокоорганизованное.[62] Г.Ферреро структурно различал династическую, демократическую и революционную власть,[63] а Д.Шумпетер - коммерческие и социалистические общества,[64] которые он считал структурно противостоящими друг другу.
В СССР Н.Азаров писал о структурных различиях политической активности классов, организаций и учреждений,[65] а М.Руткевич - о структурных особенностях политической теории и политической деятельности.[66] Ф.Рудич в аналогичном подходе анализировал механизмы политической забастовки, реформы и революции. Он также стратифицировал политическую реальность на действие, поведение, творчество, общение, сотрудничество, управление и руководство.[67] А.Федосеев подчеркивал структурные особенности политической идеологии и психологии, а также политических норм, ценностей, учреждений, отношений, процессов и поведения.[68] В.Шапиро, в свою очередь, писал о структурных особенностях получения политических знаний, выработки, принятия и реализации политических решений.[69]
В.Гулиев анализировал структуру политического участия, которое, как он считал, может быть консультативным, сорешающим и решающим.[70] Вместе с Ф.Рудинским он писал о политической структуре народовластия, в которой выделяются: источник власти (народ); носитель власти (государство); участники власти (общественные организации и граждане); субъекты властных полномочий (государственные органы, органы общественных организаций); объекты власти (общество, классы, коллективы, граждане).[71] Ю.Скуратов в структуре политической активности различал функцию народа, вид управленческой деятельности и конституционный принцип. Структурными аспектами политической активности в советском государствоведении интересовались М.Орзих, В.Масленников, В.Кучинский, Б.Железнов, В.Копейчиков, Н.Бондарев,[72] А.Клюев.[73]
А.Чередниченко писал о структурном делении политической активности на организационную, теоретическую, воспитательную, исполнительскую и управленческую.[74] Он также различал социально-практическую и духовно-теоретическую политическую деятельность.[75] А.Ковлер и В.Смирнов писали об индивидуальном и коллективном, добровольном и принудительном, активном и пассивном, традиционном и альтернативном, революционном и охранительном политическом участии,[76] а И.Ильинский, в свою очередь, выделял организационные, процедурные, статутные институты и субинституты политического поведения.[77]
Структурными аспектами политического интересовался также Ю.Тихомиров. Политический институт у него выступает структурно упорядоченным и воспроизводящим себя способом жизнедеятельности людей, средством их целенаправленного воздействия на общественные процессы.[78] Р.Макивер и Ч.Пейдж определяли институт как форму или способ поведения, характерный для всякой групповой человеческой активности,[79] что подтверждается также идеей П.Друкера о том, что если общество, община и семья существуют, то организации - действуют. Структура политической активности проявляется и на уровне ее субъектов, среди которых Г.Атаманчук выделял объединенный в государство народ, органы и должностных лиц.[80] Политическая активность, как писал М.Цвик, может иметь также структурно-территориальное подразделение.[81]
В целом эти классификации объединяет то, что в своей основе они имеют некогда состоявшееся в СССР конституционное структурирование политической активности на виды, подвиды, группы, институты и субинституты. Почти все такие классификации исходили из анализа текстов правовых источников и документов КПСС. В них не упоминалась деструктивная политическая активность, равно как и политическая активность оппозиции, диссидентов и правозащитников. В таких подходах редко выделялись индивидуальные политические усилия и многое другое, что легко объясняется особенностями существовавшего в СССР политического режима.
Более живые подходы характерны для западных политических исследований. У М.Вебера структура политической власти представлена тремя типами: традиционным, рациональным и харизматическим. Первый основан на обычае и религиозных нормах, второй опирается на правила, установленные для достижения отдельных рациональных целей (здесь важен момент деперсонифицированности). Харизматический же тип власти реализуется у него в конфликте между традиционной и рациональной властью.[82] По-видимому, деперсонифицированный тип власти является ключевой категорией органического конституционализма, ведь если основанное на обычае или харизме подчинение совместным конкретным целям, в конечном счете, означает рабство, то подчинение абстрактным правилам (сколь бы тяжелым не казалось их бремя) наилучшим образом обеспечивает простор человеческой свободе и многообразию.[83]
У Т.Гоббса власть разделена на позитивную и негативную, причем первая подразделяется на монархическую, аристократическую и демократическую, а вторая - на тираническую, олигархическую и анархическую. Г.Моска, в свою очередь, различал два способа правления: феодальный, в котором функции исполнительной, судебной, законодательной и религиозной власти объединены; и бюрократический, в котором не все исполнительские функции сконцентрированы в одних руках.[84]
Разумеется, наиболее важным в конституционализме является деление политической власти на власть народа и государственную власть. Поскольку народ, как писал А.Шлезингер, в силу структурных причин не может править непосредственно, он делегирует свои полномочия представителям. В итоге общественные системы создают треугольник, образуемый политиками, государственным управлением и группами интересов.[85] При этом законы структурности располагают политические отношения в вертикально-горизонтальной системе координат. Вертикальные отношения возникают между носителями социальных интересов и их выразителями. Горизонтальные же образуются между слоями в обществе, партиями, движениями и классами.[86]
У Ю.Хабермаса избиратели способны осознавать свои интересы лишь после их обобщения в политическом дискурсе, ибо политические решения не поставляются суверенным народом, но предоставляются ему. В итоге формирование политической позиции не начинается с народа, но проходит через него.[87] По мнению Д.Брайса, общественное мнение вырабатывается немногими, но затем укрепляется активностью многих людей.[88] Иными словами, политические отношения по схеме "народ - представители", равно как и по схеме "власть - народ", сами по себе еще не означают, что селективная (отбирающая образцы решений) демократическая власть парламентского большинства подчинена более узкой творческой (создающей рынок образцов) власти. Структура их взаимоотношений гораздо более сложная. Но очевидно, что из такой структуры вытекает вывод о том, что векторы прогресса и демократии далеко не всегда совпадают.
Признаки политической структурности обнаруживаются в определении П.Сорокиным государства как совокупности народа, территории и власти. Они же предполагаются в утверждении М.Мариновича о том, что нация и государство - это разные храмы, равно как и в замечании В.Соловьева о том, что монастырь, дворец и село суть общественные устои России. Идея структурности доминирует в политических интерпретациях теории разделения властей у Ж.-Ж.Руссо, Ш.Монтескье и Д.Локка.
Для П.-А.Гольбаха не существует более верного политического пути, чем разделение власти между сословиями, а у Г.Мабли власть разделена, чтобы обеспечить повиновение правителей законам. Как известно, разделение властей "англичанами античности" (А.Мигранян) в Древнем Риме обеспечило его длительное и эффективное политическое доминирование. Внедрения даже самого простого механизма сдержек и противовесов оказалось достаточным, чтобы покончить с греческим сосредоточением власти в едином полисе, социальном слое или классе.[89]
У Т.Джефферсона политическое управление основано на принципах свободы, но из этого также следует, что верховная власть должна быть разделена между политическими институтами, каждый из которых мог бы выйти за пределы своей компетенции, лишь столкнувшись с противодействием со стороны других институтов.[90] Именно поэтому, писал Д.Мэдисон, ведомства должны иметь прямую заинтересованность в сопротивлении посягательствам на свою компетенцию. Честолюбие должности должно противостоять другому честолюбию и т.д.[91] Как известно, политическая практика сделала разделение властей доктриной, равной по своему значению закону стоимости.[92]
К сожалению, в конституционализме посттоталитарных стран разделение властей обрело черты известного буквализма. Например, в ст. 10 Конституции России 1993 г. закреплено разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную. При этом подчеркивается, что каждая из властей самостоятельна.[93] Аналогичное правило содержится в ст. 8 Конституции Болгарии 1991 г.,[94] ст. 11 Конституции Узбекистана 1992 г.,[95] ст. 4 Конституции Хорватии 1990 г.,[96] ст. 6 Конституции Украины 1996 г.[97] Подобные нормы есть также в Конституциях Казахстана 1993 г. и Кыргызской Республики 1993 г. Критику в данном случае вызывает не столько сам принцип структурного деления власти, сколько его формальное выражение. Наиболее сомнительным в данном случае выглядит определение судебной власти как государственной, отнесение судов к разновидности государственных органов.
Именно в силу органической природы структуры политических отношений этот прием небезупречен по отношению к конституционным и иным высшим судам, принимающим иски к государству в целом, или выступающим арбитрами в спорах о прерогативах народного и государственного суверенитетов. Прямое отождествление судебной власти с государственной присуще Конституции Казахстана 1993 г., Конституции Кыргызской Республики 1993 г., Конституции Литвы 1992 г. и др. Попытка компромисса предпринята лишь в ст. 101 Конституции Македонии 1991 г., согласно нормам которой Верховный Суд Республики признается высшим судом в Республике,[98] что формально несколько обособляет судебную власть от государственных структур.
Еще более противоречивыми в посттоталитарных конституциях выглядят нормы об осуществлении правосудия именем государства, народа и общества, а не именем конституции или закона (права). Ведь в этом случае праву отводится роль не деперсонифицированного авторитета, абстрактного правила игры, в которой государство есть лишь один из участников,[99] а рабочего инструмента государственной власти, рычага государства, некоего позитивистского итога и продукта демократии. Между тем, как писал Д.Талмон, уже начиная с 1789 г. реальным врагом политической свободы является не деспотизм королей, а неограниченное парламентское большинство, тоталитарная демократия.[100]
Еще и сегодня, к сожалению, суд трактуется как один из прямых каналов народовластия (ст. 2 Конституции Чехии 1992 г.). Но ведь вынесение судебных решений (приговоров) именем государства не только косвенно подтверждает инструментальный характер суда по отношению к государству, но и недвусмысленно ставит государство в позицию судьи в собственном деле. Несмотря на противоречивость данной конструкции, она превалирует в целом ряде посттоталитарных конституций (ст. 109 Конституции Литвы 1992 г. и др.). Иногда встречается, что конституции провозглашают осуществление правосудия "именем Украины" (ст. 124 Конституции Украины 1996 г.), "именем народа" (ст. 101 Конституции Италии 1947 г.),[101] "именем Короля" (ст. 117 Конституции Испании 1978 г.).[102] Однако, лишь в ст. 114 Конституции Молдовы 1994 г. закреплена норма об осуществлении правосудия именем закона.[103]
Интересно отметить, что структурный принцип разделения властей проявляется в большей степени на горизонтальном, нежели вертикальном уровне. Собственно говоря, горизонтальные отношения и являются по-настоящему политическими. Вертикальная же схема политической активности на поверку почти всегда оказывается административной. Именно на горизонтальном уровне отношений требуются терпимость и плюрализм, именно здесь однопартийная демократия, как писал Н.Сесардич, становится столь же похожей на настоящую демократию, как человек по фамилии Зеленый похож на зеленый цвет.[104]
Естественно, что структурные аспекты политической активности проявляются не только в практике реализации фундаментального принципа разделения властей, но и на факультативном уровне, в делении власти на ординарную и чрезвычайную, а политической активности на конструктивную и деструктивную. Например, если конструктивность проявляется в наделении объекта приложения усилий чертами, которые ранее ему не принадлежали, а деструктивность, наоборот, в лишении объекта ранее принадлежавших ему черт,[105] то политически конструктивной будет активность, утверждающая многопартийность или свободу прессы, а политически деструктивной - создающая партийную монополию или устанавливающая информационный контроль. Недаром А.Богданов писал, что деструктивная активность, как правило, всегда подразумевает уменьшение практической суммы и способов сочетания активностей в том или ином объекте.[106]
Таким образом, структура политической активности производна не только от иерархического устройства власти, множественности элементов политической системы или национального понимания классической схемы разделения властей. Однако, в конституционном смысле наиболее важной структурой политической активности всегда остается ее разделение на государственную политическую активность и политическую активность гражданского общества.
Генетические истоки такого деления обнаруживаются в идее народного суверенитета, который по отношению к суверенитету государственному считается первичным. Как утверждалось в "Энциклопедии" Д.Дидро, свою власть король получает от подданных. Именно из этой идеи воспоследовало представление эпохи Просвещения о народном суверенитете, как о первичной власти, конструирующей вторичную государственную власть из согласия управляемых. И хотя, как свидетельствует Р.Арон, Т.Гоббса долго не отпускал страх перед гражданской войной, спасти от которой могла лишь абсолютная монархия, уже Б.Спиноза смотрел на данную проблему проще, отстаивая ограничение правительственной власти в интересах социального мира и гражданской свободы.
Идею ограниченного правления позднее концептуально развил В.фон Гумбольдт, который, в частности, писал, что при создании государственного устройства необходимо не только предварительное определение "господствующей" и "подчиненной" частей нации, но также и объектов, на которые политическая власть будет распространять свою деятельность, и по отношению к которым она обязана будет ее ограничивать.[107] Таким образом, политическую сферу он разделил на пространства, предполагающие особую структуру отношений между ними.
Следует заметить, что и у А.Токвиля государственная и гражданская сферы отчетливо разделены. Государство у А.Токвиля суть ассамблеи, министерства, суды, армия и полиция. Гражданскую же сферу ("civil life") образует негосударственная активность, осуществляемая индивидами помимо домашних и бытовых забот.[108] И если экономические гражданские ассоциации у него существуют ради частных интересов коммерции и индустрии, то политические гражданские ассоциации занимаются выработкой и поддержкой доктрин, которые им хотелось бы воплотить в жизнь. В итоге, религия гражданственности требует у А.Токвиля государственного подчинения обществу, а политическая религия - общественного подчинения государству.
Религия гражданственности, или идея приоритета народного суверенитета перед государственным, как известно, легла в основу американской конституционной доктрины уже в ХVIII в. В Европу эта идея проникла под влиянием Ш.Монтескье, пересадившего на континент английские представления о политической власти ассоциированных представителей общественности. Поэтому логично, что у О.Гирке уже и европейский конституционализм базируется на идее конкуренции двух сил в политическом поле: силе государства с его страстью к всемогуществу и силе индивида с его стремлением к свободе.[109]
Тем не менее, наиболее основательно среди политических философов различал активность государства и гражданского общества, по-видимому, Гегель, который, в частности, писал: "Действительная власть полагается, правда, в качестве единой и сконцентрированной в правительстве; но ей противопоставляется возможная власть, и эта возможность должна в качестве таковой обладать способностью принуждения по отношению к данной действительности. Предполагается, что это второе бессильное существование общей воли должно обладать способностью суждения, следует ли власти покинуть ту первую волю, с которой она связана, соответствует ли еще власть понятию всеобщей свободы. И этой воле надлежит вообще осуществлять контроль над верховной властью, и если в ней частная воля вытеснит всеобщую, лишить ее власти; причем сделано это должно быть посредством публичного заявления, обладающего абсолютной силой воздействия, в результате чего с этого момента все действия верховной государственной власти теряют всякое значение. Нельзя, не следует допускать, чтобы власть обособлялась сама посредством собственного суждения; это было бы восстанием; ибо эта чистая власть состоит из множества частных воль, которые, следовательно, не могут конструироваться в общую волю. Однако вторая, общая воля объявляет, что это множество в качестве сообщества, или чистой власти, объединено с идеей всеобщей воли, поскольку эта воля больше не присутствует в предшествовавших властителях".[110] Несмотря на трудности изложения, главная мысль, как представляется, здесь выражена достаточно лапидарно. Позднее эту мысль воспроизвел Ю.Хабермас, говоря, например, что систему финансового оборота, а также экономическую власть, равно как и власть гражданской администрации в структурно сложных современных обществах можно лишь сдерживать. Однако в любом случае эта власть должна быть отделена от коммуникативных сфер общества, устранена из пространства общественной мысли и частной жизни, природа которых имеет спонтанный характер. В противном случае враждебная спонтанности бюрократическая рациональность проникнет в повседневную жизнь людей. Чтобы этого не случилось, система гражданской коммуникация должна оберегать границы своего мира.[111]
Поэтому, как писал Ю.Хабермас, "мы должны различать власть, рождающуюся в процессе коммуникации, и административно применяемую власть. В деятельности политической общественности встречаются и перекрещиваются два противоположных процесса: с одной стороны, коммуникативное формирование легитимной власти, которая рождается в свободном от всякой репрессивности процессе коммуникации политической общественности, а с другой - такое обеспечение легитимности через политическую систему, с помощью которой административная власть пытается управлять политическими коммуникациями".[112]
Б.Рассел также различал два вида крупномасштабной политической активности. С одной стороны, как он считал, общественная безопасность требует централизованного правительственного контроля, который может расшириться до размеров мирового правительства. С другой же стороны, гражданское общество движется по пути прогресса, конкурирующего с социальным порядком.[113] Ситуация при этом осложняется еще и тем, что в интересах прогресса человечество вынуждено допускать если не все, то многое. Неудивительно поэтому, что в сознании современного человека все конфликты могут однажды слиться в фундаментальное противостояние: общество - власть, духовный истэблишмент и духовный контристэблишмент.[114]
По убеждению Р.Рейгана, любая демократия является системой ограничения государственной власти, в результате которого политика и правительство играют лишь второстепенную роль по сравнению с подлинными ценностями жизни, которыми выступают семья и вера.[115] Впрочем, тезис о том, что высший долг люди имеют по отношению к своим родственникам, а не общиной или государством, не является исключительно западным.
Цели государства хоть и широки, но ограничены. Традиционно ими являются безопасность, счастье и сохранность как общества в целом, так и его отдельных частей, писал П.-А.Гольбах. Следовать этому правилу на практике оказалось непросто. И хотя суверен, по замыслу Ж.-Ж.Руссо, должен был всецело посвятить себя охране человеческой свободы,[116] защите гражданской свободы посвящается сегодня лишь небольшая часть правительственных прерогатив.[117] На практике правительства в гораздо большей степени заботит стабильность и порядок. Еще Ф.Бэкон характеризовал государственную активность как обуздывающую, укрощающую и подчиняющую себе общественную жизнь,[118] однако и сегодня универсальной правительственной мечтой остается упорядочение поведения народа. Недаром излюбленной доктриной государственной власти является доктрина порядка. Политические руководители легко отождествляют порядок со status quo, объявляя подстрекателем всякого, кто осмеливается выступить против.[119] Всякий профессиональный управленческий аппарат стремится к сохранению сложившихся отношений и порядков, а не к их преобразованию.[120]
В свое время Ч.Беккариа заметил, что "политические машины" дольше других сохраняют приданное им движение и медленнее остальных перестраивают свой ход.[121] Поэтому любимым занятием государственных бюрократов является обеспечение порядка на территории безотносительно к особенностям человеческой расы.[122] Бюрократы обычно невосприимчивы к тому, что правительственная власть, парализуя гражданскую жизнь, толкает тем самым государство к собственному параличу.[123] Недаром Ф.Ницше, не смущаясь, называл государство "псом лицемерия", а М.Бакунин приписывал государству изначальное убеждение, что человек зол и плох. По мнению Ж.-Ф.Ревеля, все, что есть в человеке неполитического, чиновникам ненавистно.[124] У С.Вейль "от необходимости целовать металлическую холодность государства люди изголодались за противоположным".[125] Преданность порядку, наряду с убеждением в его незыблемости, есть стандарт бюрократического отношения к действительности.[126] Ведь государство, как говорили классики, осознает свои функции как вытекающие из противоположности между правительством и народными массами.[127]
И тем не менее, в политическом смысле государство есть лишь временный триумфатор. Как писал К.Маркс, "с того момента, как управление государством и законодательство переходят под контроль буржуазии, бюрократия перестает быть сознательной силой; именно с этого момента гонители буржуазии превращаются в ее покорных слуг. Прежние регламенты и рескрипты, служившие лишь для того, чтобы облегчить чиновникам их деятельность за счет промышленников - буржуа, уступают место новым регламентам, облегчающим деятельность промышленников за счет чиновников".[128] Постепенно "центральной государственной власти" становится ясно, что продолжение старых отношений с обществом невозможно, и что правительству надлежит предоставить своим подданным свободу во всем, что не относится к его прямому назначению, что не связано с внешней и внутренней безопасностью. Так что не может быть более священной для правительства обязанности, чем предоставление гражданам свободы в такого рода вопросах и их защита, независимо от соображений утилитаристского характера, ибо эта свобода священна сама по себе, писал Гегель.[129] Естественно, что осуществление данной свободы может иметь место лишь в структурных рамках гражданского общества, представления о котором, однако, весьма различны.
Ж.-Ф.Ревель определял гражданское общество состоящим из граждан, которые действуют во всем по собственной инициативе, вне актов государства и вне ответственности перед государственной властью.[130] "Международное общество прав человека" (МОПЧ) гражданским называет общество, в котором его члены имеют не только независимые от правительства организации и прессу, но и сами являются экономически независимыми от государства. Д.Грин называл гражданское общество негосударственным добровольным "царством общей активности", руководимым чувством долга людей по отношению друг к другу и к социальной системе свободы в целом.[131] Это определение близко к пониманию Д.Истоном политического сообщества, как объединенного чувством общности по отношению к известному количеству сходных или идентичных ценностей.[132] Для М.Новака эффект гражданского общества возникает вследствие углубляющейся политической дифференциации мира, в результате которой экономические и морально-культурные системы становятся автономными vis-а-vis государству.[133]
По представлениям Д.Сартори, гражданское общество - это открытое общество, в котором общественное начало превалирует над государственным, а демос предшествует власти.[134] Для М.Волсера оно напоминает совместное предприятие, публичное место, где люди спорят и обговаривают общие интересы, намечают свои цели и обсуждают приемлемый для них риск.[135] По мнению Р.Дарендорфа, "гражданское общество есть общий знаменатель подлинной демократии и эффективной рыночной экономики".[136]
Гражданское общество также может быть определено как "сфера или подсистема общества, которая является аналитической и в определенной степени отдаленной от сфер политической, экономической и религиозной жизни". Иными словами, "гражданское общество является сферой солидарности, в которой напряженно переплетаются как абстрактный универсализм, так и партикуляристские версии общности. Оно является как реальной, так и нормативной концепцией".[137] В современных развитых странах гражданское общество не является простым придатком экономической системы и, тем более, придатком государства, а выступает "ареной деятельности разнообразных организаций, каждая из которых стремится защитить политические или классовые интересы определенной социальной группы".[138] В итоге именно сосуществование и конкурентная борьба разнородных социальных сил подрывают попытки государственной монополизации политического, морального или интеллектуального влияния.
Теоретически традиция гражданского общества, по мнению А.Селигмана, берет свое начало в работах А.Шефтсбери, Ф.Хатчесона, А.Фергюсона и А.Смита. Позднее его концепция была развита Б.Констаном, Л.Стейном и А.Грамши. Сам А.Селигман считает, что гражданское общество есть арена, на которой свободная самодетерминирующаяся индивидуальность располагает свое стремление к личной автономии.[139] Иными словами, гражданское общество есть форма интеграции общественности, которая противостоит государственной интеграции. Поэтому, если в рамках марксистской интерпретации социальной динамики общественные противоречия ведут к государству, то в рамках англо-американских представлений о социальном прогрессе люди объединяются, чтобы противостоять ему.[140] Не желая быть поглощенными государством, они объединяются на "неинтегративной" основе индивидуальной свободы. Поэтому гражданское общество есть нечто отличное от государства, нечто "за пределами" государства и практики государственных функционеров.[141] Впрочем, еще в Великой хартии вольностей 1215г. утверждалось, что гражданское общество образует область, в которой люди являются свободными от необоснованного вторжения со стороны правительства. Этот подход, сохранившийся до настоящего времени, проник даже в современные популярные учебники политологии для средних школ. В одном из американских изданий такого рода утверждается, что гражданское общество образует область добровольных личных, социальных и экономических отношений и структур, которые, будучи ограничены законом, не являются частью государственных учреждений. Гражданское общество обеспечивает пространство свободы своих членов, защищенное против неосновательного вторжения в него со стороны официальных властей. Так благодаря созданию независимых структур силы и влияния гражданское общество становится необходимым средством поддержания идеи ограниченного правления.[142]
В свое время Гегель говорил, что хотя индивид, безусловно, является целью для себя, осуществление данной цели по необходимости связано с другими индивидами, и потому должно предполагать известную форму гражданской универсальности. Из данной идеи, писал позднее Д.Ролз, следует важное конституционное следствие, а именно то, что первичная политическая власть может быть представлена лишь исключительно коллективным организмом, властью общественности, волей свободных и равноправных граждан.[143] Данная теоретическая конструкция действительно близка исходным принципам политической эволюции США, что и позволило А.Селигману заявить о стилевой практике американской политической жизни, как о воплощенной идее (парадигме) гражданского общества.[144]
Фактически ничто, кроме стремления сохранить свободу, не интегрирует людей в гражданское общество. Общество же, как уникальное политическое целое, не имеет корпоративного сознания.[145] Как писал В.Перес-Диас, гражданская ассоциация не имеет никакой общей цели, кроме универсальных правил, которые должны соблюдаться всеми во имя осуществления индивидуальных устремлений.[146] Уже для шотландских моралистов времен А.Фергюсона быть гражданином означало уважать чувства других.[147] Эволюция же этого качества привела к тому, что защищая индивидуальность, гражданское общество оказалось в оппозиции государству.[148] В конечном счете, писал Д.Холл, гражданское общество стало сложным политическим комплексом, балансом согласия и конфликта, многообразия и консенсуса, равно необходимых для жизни современного человека.[149]
Для Ф.Оксборна гражданское общество есть основанный на многообразии территориальных и функциональных гражданских объединений социальный феномен, значимость которого определяется мирным сосуществованием таких объединений, при сохранении ими способности сопротивляться подчинению государству.[150] Э.Гелнер писал, что гражданское общество является воплощением неправительственных институций, достаточно сильных для того, чтобы противостоять государству, одновременно не препятствуя ему сохранять мир и выступать арбитром между различными интересами.[151] Как говорил С.Гринер, зрелое гражданское общество предстает перед нами в нескольких измерениях, важнейшими из которых являются индивидуализм, privacy, рынок, плюрализм и классовая структура.[152] Его характерными чертами выступают также верховенство права, организация негосударственных групп и интересов, а также плюрализм, препятствующий любому доминированию.[153]
Недаром, как писал Д.Талмон, свобода находится в безопасности лишь там, где политика не считается важнейшим делом, и где существует много уровней неполитической частной и коллективной активности.[154] Естественно, что в последнем случае успех гражданского общества будет зависеть от человеческой способности строить отношения на взаимном доверии, независимо от того, хорошо ли индивиды знают друг друга.[155]
Гражданское общество структурно, как структурно и государство. Однако структурность гражданского общества имеет не вертикальный, как у государства, а горизонтальный характер. В этом смысле гражданское общество есть "свободная синергия", "анархия в смысле положительном", порядок, спонтанно вытекающий из внутренней солидарности людей, работающих, не нуждаясь в понуждении и управлении.[156] Логично, что при этом гражданское общество имеет отличные от государства приоритеты. Если для государства ими остаются безопасность, стабильность, порядок и защищенность, то для гражданского общества приоритетами становятся свобода, инициатива, динамизм и спонтанная активность. Такое разграничение приоритетов имеет глубокий характер, структурно предопределяя содержание большинства органических конституций.
Если, как писал В.Амелин, государственная власть служит прозаической цели поддержания общественного порядка, то развитие общества инициируется другими социальными механизмами. Поэтому попытка коммунистического режима синтезировать власть и механизмы развития была, по его мнению, не только исторической, но и логической ошибкой.[157] В этом же смысле Б.Курашвили писал о системе социального оппонирования аппарату управления в СССР;[158] А.Мигранян - об институтах публичной власти, могущих контролировать деятельность бюрократии; В.Гулиев - о дифференциации самоуправления и государственного управления при социализме.[159] Отчетливое разграничение государственного и общественного, как известно, признавалось также в марксизме, противопоставлявшем государству свободу и разнообразие частной жизни, не подавляемых и не поглощаемых единством государственной воли.
Органические конституции возникли в эпоху доминирования частной собственности, личной инициативы и предприимчивости, поэтому конституция и капитализм связаны не столько хронологически, сколько структурно. Конституционализм есть исторический феномен, возникший одновременно с буржуазным убеждением, что благосостояние и справедливость достижимы лишь с помощью самоуправления и рынка.[160] Конституция, таким образом, есть общественное, а не государственное новое право. Цель последнего - охранить буржуазно-капиталистические приоритеты, главным из которых является свобода. Иными словами, конституция оформляет отделение благосостояния и справедливости от политической власти, регулируя отношения между государством и обществом таким образом, чтобы государство, оставаясь гарантом гражданских прав, перестало политически контролировать общество.[161] Закономерно, что при капитализме правовые системы начинают трансформироваться из однополярных в биполярные, где один полюс - новое право (право гражданского общества), или конституции, ориентируется на свободу, а второй полюс - текущее законодательство (право государства) сохраняет преданность "умиротворенности настоящего". Как говорит один из героев романа О.Хаксли: "Во времена Джефферсона было много американцев, умевших самостоятельно заработать на жизнь. Экономически они были независимы. И от правительства, и от большого бизнеса. Вот потому-то появилась наша конституция".[162]
Достижение ограниченного правления является общим для всех конституционных систем, писали Ч.Сандерс и У.Прусс,[163] поэтому конституционализм следует интерпретировать как систему ограничений правительственной власти (Д.Коммерс и В.Томсон).[164] Недаром у Д.Талмона главным объектом конституции является защита граждан от собственного правительства и его оскорблений. Конституции действительно не создаются, а вырастают. Их появление знаменует зрелость гражданского общества. Поэтому принятие нефиктивной конституции является как бы актом политической инициации народа. Оно означает, что общественность не только осознала свое принципиальное верховенство над государственной властью, но и начала отождествлять себя с главным фактором политического прогресса.[165] Конституция - это гарант свободы гражданского общества, выражением которой является известная мера позитивного хаоса, неупорядоченности в экономике (рынок), политике (демократия), частной жизни (privacy). Она есть не столько упорядочиватель гражданской жизни, сколько гарант против ее чрезмерной организованности и регламентированности. Посредством конституции, писал Т.Грин, мы предостерегаем себя против "заботливого, как бабушка, правительства" а также против избыточного законодательства.[166] Иными словами, органическая конституция создается для того, чтобы защитить людей от государства, а вовсе не для того, чтобы помочь государству в защите граждан друг от друга.[167]
В рамках социалистической политико-правовой парадигмы общественность привыкла относиться к конституции, как к юридическому генералу (качество "генеральности" конституций анализировалась в науке) - отчасти благодушному, иногда склонному к социальной демагогии, но в своей основе всегда пирамидальному, авторитарно самовластному. Конечно, конституция, как и любой органический закон, должна противостоять юридическому и политическому произволу. Но более важным в ней является то, что она предохраняет гражданское общество против чрезмерной зарегулированости, идейного обскурантизма, посягательств живой власти на власть деперсонифицированную и абстрактную.
В поисках оснований реального конституционализма мы должны отречься от представлений о конституции, как о правовой структуре коллективизма. Органически составленные конституции отрицают утилитарные аргументы в пользу вторжения государства и его агентов в сферу частной жизни, индивидуальных прав и свобод человека. Уже с момента своего возникновения органическими были лишь конституции, служившие "уздечкой для вождей" (П.-А.Гольбах)[168] и возвышавшие авторитет права над политическим авторитетом власти (Ж.-Ж.Руссо).[169] Именно такое возвышение абстрактного авторитета права над персонифицированной властью проявилось в Великой хартии.
Тот факт, что органические конституции отстаивают приоритет свободы, включая риск "сверхдемократии" и хаоса, а не стабильности на основе доктрины порядка, хорошо иллюстрируется примерами. Уже Великая хартия беспокоится о "свободе", "неприкосновенности прав", "неотъемлемых вольностях" церкви; использует понятия "свободного человека", который не может быть "задержан, заключен, лишен имущества, поставлен вне закона", "изгнан" или "разорен" иначе, как "по законному приговору равных ему и по закону страны" (ст. 39).[170] Свобода выезда из Англии и возвращения в нее гарантируется при этом не только купцам (ст.41), но и "каждому" (ст.42).
В свою очередь, английский Билль о правах 1689 г. запрещает судам ограничивать "свободу слова, суждений и актов в парламенте" (ст.9), провозглашает принцип свободных выборов, разрешая отстаивать "указанное и изложенное здесь ограничение... короны всеми своими силами, не щадя ни жизни, ни состояния, против всех лиц, которые предпримут что-либо сему противное".[171]
Декларация независимости США 1776 г. провозглашает, что "когда какая-либо форма правления становится губительной для этой цели (обеспечения жизни, свободы и стремления к счастью - В.Р.), то народ вправе изменить или уничтожить ее, и установить новое правительство, основав его на таких принципах и организуя его власть в такой форме, которые покажутся наиболее пригодными для осуществления его безопасности и счастья".[172]
О структурной оппозиции свободы и регламентированности гражданской жизни косвенно упоминается в ІХ поправке к Конституции США (1791 г.): "Перечисление в Конституции определенных прав не должно толковаться как отрицание или умаление других прав, сохраняемых народом".[173] Французская Декларация прав человека и гражданина 1789 г. также провозглашает, что: "Целью всякого политического объединения является сохранение естественных и непогашаемых прав человека. Эти права суть свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению" (ст.2). Свобода обретает конституционное толкование в ст.4 Декларации как возможность "делать все, что не вредит другому: таким образом, осуществление естественных прав каждого человека имеет лишь те пределы, которые обеспечивают другим членам общества пользование этими же правами".[174] Цель защиты свободы и гражданских прав содержится в "Общих положениях" (ст. 2) Конституции Швейцарской Конфедерации 1874 г.
Конституция ФРГ 1949 г. в ст. 20, абзац 4 (включен в 1968 г.) утверждает: "Все немцы имеют право оказывать сопротивление всякому, кто попытается устранить этот (демократический - В.Р.) строй, если иные средства не могут быть использованы".[175] Характерно, что и "право народа иметь и носить оружие", которое "не подлежит ограничениям" и записано во ІІ поправке к Конституции США (1791 г.) предусмотрено не для индивидуальной самозащиты, а для "безопасности свободного государства",[176] то есть по политическим соображениям.
Следует заметить, что обеспечение конституциями режима свободы, в которой в первую очередь заинтересовано гражданское общество, не противоречит, с точки зрения общественных интересов, стабильности и порядку. По наблюдениям В.Эбенстайна, идея выгодности свободы для обеспечения целей порядка, высказанная в 1690 г. Д.Локком, была затем неоднократно подтверждена, так что правление народа в соединении с правом на восстание против тиранического правительства стало... "наилучшим препятствием восстанию". Англо-американская конституционная система, основанная на праве народа на восстание, оказалась, как известно, наиболее стабильной в мире. Данный тезис в общей форме сохраняет справедливость и по отношению к таким государствам как Голландия, Швейцария, страны Скандинавии.[177]
Конституции посттоталитарных стран учли эти факторы весьма самобытно. Хотя в Украине, как и ранее в России, отказались от конституционного закрепления глав, специально посвященных гражданскому обществу, попытки к этому в их официальных конституционных проектах достаточно симптоматичны. Что же касается действующих посттоталитарных конституций, то в Преамбуле Конституции Молдовы 1994 г. перечислены общегражданские, а не государственные приоритеты: правовое государство, гражданский мир, демократия, достоинство человека, права и свободы, свободное развитие личности, справедливость и политический плюрализм.[178] В ч. 4 ст. 29 Конституции Словацкой Республики 1992 г. записано, что политические партии и политические движения, а также союзы, товарищества или иные организации отделены от государства.[179] Аналогичное правило записано в ч. 4 ст. 20 Конституции Чешской Республики 1992 г.[180] Конституция Литовской Республики 1992 г. содержит главу III под названием "Общество и государство", а Конституция Эстонской Республики 1992 г. - главу "Народ". В ст. 54 Конституции Казахстана 1993 г. запрещается незаконное вмешательство государственных органов и должностных лиц в деятельность общественных объединений, равно как запрещается возложение на общественные объединения функций государственных органов.[181] Эта же Конституция содержит два раздела под названиями: "Общество, основы его устройства" (раздел II) и "Государство, его органы и институты" (раздел III). В ст. 4 Конституции Болгарии 1991 г. утверждается, что Республика создает условия для свободного развития гражданского общества, а в Преамбуле Конституции Литвы 1992 г. - что Основной Закон принимается в результате стремления литовского народа к открытому, справедливому, гармоничному гражданскому обществу.[182] В Преамбуле Конституции Кыргызстана 1993 г. говорится, что Конституция принимается в результате стремления народа утвердить себя в качестве свободного и демократического гражданского общества.[183] Уважение к принципам гражданского общества провозглашено в Преамбуле Конституции Чехии 1992 г.[184] Вместе с тем, как писал В.Шаповал, новые конституции посттоталитарных стран остались, в своей основе, законами государства, а не гражданского общества.[185] Будучи ориентированными на конкретный образ будущего, они предстают перед нами жестко программными документами для грядущих поколений, что весьма отличает их от либеральных конституций, обычно устанавливающих лишь процедурные правила, и не предопределяющих характера и целей политики.[186]
В итоге, следует, видимо, признать, что в основе структурного деления политической активности на общественную и государственную лежит фундаментальное различие между суверенитетом народа и государственным суверенитетом. Помимо же этого стратегического противостояния политическую активность можно структурировать и по иным основаниям. Например, у Э.Фромма порядок, власть, подчинение и иерархия заложены в патриархальном начале, а структуры кровной связи - в матриархальном. Впрочем, еще В.Розанов отмечал, что в противостоянии своем наибольший самец и наибольшая самка суть: 1) герой, деятель; 2) семьянинка, домоводка.[187] Л.Ионин различал политическую активность по случаю, по совместительству и по профессии,[188] а Э.Мюррей выделял политическую активность лояльных граждан, последователей, реформаторов, восстающих, отклоняющихся, обособленных и созерцателей.[189] К.Поппер писал о применении политической теории души Платона в изучении иерархических структур психоанализа, а В.Штерн - о способах разрядки политической энергии личности "в себя" и "из себя".[190]
Очевидно, что по отношению к status quo любой страны политическая активность может иметь консервативный, реформаторский, революционный и контрреволюционный характер. Тирании, как известно, свергаются диктатурами, а демократии предполагают мирный способ замены негодных правлений, хотя обычно в истории редко считаются со старением общественных институтов и весьма нечасто предпринимают серьезные попытки к их обновлению.[191]
По-видимому, плодотворными также в структурном смысле могли бы стать идея о сочетании в человеке потребности в "целом мире" с потребностью в "камерном сообществе семейного типа",[192] равно как и идея о том, что лишь динамичные условия стимулируют социальный прогресс.[193]
Ценным в структурном аспекте выглядит требование Ф.Хайека не переносить правил административно управляемой микросреды на макросреду гражданского общества, ибо структурные особенности малых коллективов не воспроизводятся на этом уровне. Кроме того, как писал М.Маринович, посттоталитарный парламент не способен совершить рывок из тоталитарного общества в демократическое, ибо в его структурной трансформации заложен не столько политический прагматизм, сколько таинство народного духа.[194]
Так или иначе, но общий анализ показывает, что в конституциях посттоталитарных стран должны быть закреплены гарантии обеспечения прогресса на основе максимально быстрых преобразований, однако не таких, которые бы дорого обошлись простым людям. Они должны предполагать как традиционный контроль гражданского общества за государством, так и специальный контроль за государственной деятельностью со стороны специальных общественных институций, прежде всего, правозащитных организаций. Применительно к Украине речь, например, могла бы идти о таких общественных институтах как "Международная амнистия", "Зеленый мир", "Международное общество прав человека", "Мемориал", "Украинско-Американское бюро защиты прав человека" и др. Как сказал однажды П.Друкер, с течением времени будущие общества очеловечатся, возможно, настолько, что из "кристаллических" превратятся в "жидкостные". Эта широкая метафора требует пояснения, однако общий смысл универсальных структурных изменений современной политической активности она схватывает.
ФЕНОМЕН СВОБОДЫ
КАТЕГОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ
В брошюре Информационного агентства США, посвященной демократии, говорится, что основной вклад демократии в культуру заключается в предоставлении свободы творить, экспериментировать, исследовать мир человеческого разума и духа.[195] О роли свободы применительно к прогрессу П.Фейерабенд писал, что свобода есть единственный принцип, не препятствующий научному прогрессу, в интересах которого допустимо все ("anything goes").[196] Для Д.Ролза свобода выступает первым и наиболее важным принципом справедливости, с которого все начинается.[197] Каждый индивид, по теории Д.Ролза, должен иметь право доступа к основной свободе, сопоставимое с аналогичным правом других, из чего затем вытекает невозможность каких-либо политических обязательств для граждан. Свобода необходима людям уже хотя бы потому, что выбор, который они совершают в пользу того или иного вида активности, возможен лишь в обстоятельствах свободы.
Д.Брайс считал, что демократия должна лелеять индивидуальную свободу, которая одухотворяет свободу политическую.[198] В свою очередь, Б.Малиновский писал, что хотя политическая свобода выступает не единственным типом свободы в человеческой культуре, ее отсутствие разрушает все остальные.[199] Свобода для него является наиболее существенным фактором всех проблем современности. Примечательно, что и у Х.Арендт смыслом политики является свобода, а полем ее применения - действие.[200]
Для Д.Сартори политическая свобода есть главная предпосылка всех иных свобод. Мы нуждаемся в свободе "от", чтобы иметь свободу "для", писал он.[201] Возможно поэтому свободу считают самоценной и не зависящей от исторической или политической конъюнктуры.[202] У А.Фергюсона свобода порождает такое распределение функций в гражданском обществе, которое позволяет каждому следовать своему призванию в соответствии с собственной природой.[203] Для С.Хантингтона демократия ценна прежде всего своими позитивными следствиями для индивидуальной свободы.[204]
П.Кропоткин считал, что на Западе люди ценят личную свободу выше, чем благосостояние. Если прежде, писал он, рабочие отдавали свободу в обмен за материальные блага, то теперь этого нет. Свобода есть свобода, как дважды два равно четырем, писал М.Шимечка, и если это принять, все остальное следует. Ведь Д.Оруэлл показал, как придется жить, если мы не сможем утверждать, что дважды два равно четырем. Свобода, писал С.-О.Литторин, это не только условие избавления от экономической нищеты, но и главный фактор мира и сотрудничества между народами.[205] Свобода лица, говорил А.Герцен, есть величайшее дело. На ней и только на ней может вырасти подлинная воля народа. У С.Трубецкого без свободы нет ни права, ни власти, ни познания, ни творчества. Б.Рассел особо отметил то место у И.Канта, в котором он писал, что не может быть ничего более ужасного, чем подчинение одного человека воле другого.[206] Тот, кто отказался от свободы ради безопасности, писал Б.Франклин, не заслуживает ни свободы, ни безопасности.[207]
Только в условиях свободы энергия индивида может проявиться во всей полноте. В свободе - главная пружина человеческого совершенствования, этот закон действует везде.[208] По мнению Л.Шестова там, где нет свободы, не существует и всего остального, что в какой-либо степени ценится людьми. По мнению же К.Маркса, ни один человек не борется против свободы. Самое большее, человек борется против свободы других.[209] П.Бергер писал, что утверждение единства и целостности свободы является фундаментальным требованием, ибо ограничение свободы в одной части человеческого существования непременно влияет на свободу в остальных его частях.[210] Для Х.Ортеги-и-Гассета свобода - это позиция, которую принимает человеческая жизнь, когда составляющие ее развития сходятся в точке, образующей динамическое равновесие.
Нам нужно понять, не раз говорил Р.Рейган, что невозможно частично поступиться свободой, не потеряв ее во всем. По убеждению И.Канта, свобода высказывать свои мысли для публичного обсуждения, не подвергаясь за это обвинениям в угрозе для общества, вытекает из коренных прав разума. Ведь мысль жива контактами и обменом. Подчеркивая абсолютную ценность свободы, К.Ясперс говорил, что там, где нет свободы, невозможна справедливость, поэтому смертельная опасность не грозит человеку до тех пор, пока он свободен. У И.Павлова рефлекс свободы - характерная реакция всех живых существ, самый важный из врожденных инстинктов. Любое препятствие на пути живого организма разрушается, если оно противоречит его жизненному курсу. Р.Рейган считал стремление к свободе основным и неукротимым, а Д.Дьюи напоминал свои читателям, что свобода способна обычно позаботиться о себе сама, то есть без применения полицейских правил.[211]
Рост цивилизации основывается на свободе, говорил Ф.Хайек,[212] и если раньше предпосылкой политической теории выступало рабство, то теперь такой предпосылкой очевидным образом является свобода. Свобода есть не просто отдельная ценность, а источник и условие всех моральных ценностей.[213] Духом, который господствует среди людей всякого звания, возраста и пола, является дух свободы, говорил А.Адамс.[214] Свобода составляет квинтэссенцию цивилизации, считал Б.Малиновский. В категориальном смысле свобода у него выступает в совокупности трех элементов: а) условий, необходимых и достаточных для самостоятельной постановки целей активности; б) эффективной активности по реализации этих целей с помощью инструментария культуры; в) полного наслаждения результатами данной активности.[215]
C точки зрения наиболее общих оснований, свобода - это искусственное порождение цивилизации, освободившее человека от различных связанностей. Она есть продукт эволюции дисциплины цивилизации, являющейся одновременно и дисциплиной свободы.[216] Свобода, писал И.Бродский, это всегда реакция на что-то, преодоление ограничений, освобожденность. Такими ограничениями в физике была статика, в политике - рабство, в трансцендентной сфере - Страшный суд.[217] Мы свободны, писал Ф.Боас, когда ограничения нашей культуры не подавляют нас. Мы не свободны, когда мы сознаем такие ограничения и не хотим подчиняться им.[218]
И.Берлин полагал, что политическая свобода есть область действий вне препятствий, чинимых другими,[219] а А.Эйнштейн под свободой подразумевал социальные условия, при которых высказывание мнений об общих и особенных элементах человеческого знания не вовлекает в опасность или серьезные осложнения носителя таких мнений.[220] Для Д.Грина политическая свобода - это отсутствие концентрации власти,[221] а у Р.Коммерса она есть самоценное следствие морального скептицизма в плюралистическом обществе, условие обеспечения всех остальных ценностей. Свобода может быть ограничена только в интересах самой свободы, но никогда в интересах "добра" - публичного или частного, писал он.[222] Как заметил в свою очередь Д.Ролз, справедливость отрицает правомочность ограничения свободы одних под предлогом, что это способствует добру других.[223] Свобода, писал Х.Ортега-и-Гассет, есть потенциальная возможность интеллекта разъединять традиционно объединенные понятия. Исторически же она была порождена обстоятельствами городской жизни.[224]
Современное понимание свободы сложилось, по-видимому, эволюционным путем. Для Ш.Монтескье свобода означала безопасность, гарантию, что граждан не потревожат, если они соблюдают законы. Она означала также право придерживаться собственного мнения при условии, что государство никому не будет навязывать своей позиции. Для Ж.-Ж.Руссо свобода - это участие в делах сообщества, в назначении правителей, благодаря чему граждане могли бы считать, что они подчиняются лишь самим себе. Это классическое представление Р.Арон дополнил пониманием свободы как возможности быть социально мобильным, право каждого освободиться из "клетки жизни", умереть в ином ролевом качестве, нежели то, в котором человек первоначально родился. Как известно, у свободы существует множество граней, так что Ж.-Ф.Ревель различал социальную, индивидуальную и интеллектуальную свободу.[225]
О многообразии свободы писали Э.Фромм и Р.Хирау, особо выделяя при этом физическую свободу перемещения и психическую свободу человеческой спонтанности.[226] Уместно говорить также о гражданской свободе, рамки которой обычно очерчиваются законом. Существуют понятия свободы прессы, слова, совести, академической свободы и других свобод, которые не всегда избавлены от внутренних противоречий.[227] Например, как считает З.Бжезинский, сегодня понятие свободы все чаще соотносится с определением хорошей жизни, и если общество максимизирует принцип индивидуального удовлетворения, то гражданская свобода в таком обществе превращается в абсолют.
Б.Рассел считал весьма удачным определение свободы Т.Гоббсом как отсутствия внешних препятствий к движению. Для Д.Дьюи свобода - это эффективная возможность делать конкретные вещи, что напоминает ее понимание Вольтером как исключительной возможности действовать.[228] С.Франку также импонировало понимание свободы как "делания" и "временности", а у Н.Лосского она означала к тому же отсутствие зависимости деятеля или деятельности от каких-либо условий.
М.Джилас видел свободу в освобождении науки и техники от пут, навязанных им сложившимися формами собственности, а также в освобождении человеческого духа от догм и насилия. Для В.Кудрявцева главное в свободе - это возможность выбора, право поступать по своей воле, без принуждения.[229] П.Фейерабенд свободным считал общество, в котором все традиции имеют равные права и равный доступ к центрам власти, а у П.-А.Гольбаха свобода есть право индивида предпринимать ради своего счастья все то, что не вредит другим согражданам. Э.Фромм считал свободой возможность действий не в рамках необходимости, а на основе осознания альтернатив и их последствий, ибо, как он говорил, хотя и не существует чего-либо, что не имело бы причины, далеко не все действия в мире детерминированы.
Для Б.Спинозы свобода была естественным правом, индивидуальной способностью судить о вещах без принуждения к этому.[230] В свою очередь, развернутое определение свободы у Т.Гоббса гласит: "Под свободой, согласно точному значению слова, подразумевается отсутствие внешних препятствий, которые нередко могут лишить человека части его власти делать то, что он хотел бы, но не могут мешать использовать оставленную человеку власть сообразно тому, что диктуется ему его суждением и разумом".[231]
Д.Локк считал свободу естественным правом человека, который не обязан подчиняться воле и власти другого человека.[232] Кроме того Д.Локк не признавал за свободным человеком права уничтожить себя или живое существо в своем владении, за исключением случаев, когда такое уничтожение необходимо для более благородного использования, чем сохранение. Относя свободу к высшим социальным ценностям, он считал, что свобода от деспотической власти настолько существенна, что человек может расстаться с ней, лишь поплатившись за это своей безопасностью и жизнью.[233] Понимая свободу, как право человека распоряжаться своими действиями, владениями и собственностью в рамках законов, не подвергаясь при этом деспотической власти другого человека, Д.Локк ставил свободу гражданского общества выше свободы, которой располагает политическая власть. У него "сообщество постоянно сохраняет верховную власть для спасения себя от покушений и замыслов кого угодно, даже своих законодателей, в тех случаях, когда они окажутся настолько глупыми или настолько злонамеренными, чтобы создавать и осуществлять заговоры против свободы и собственности подданного".[234]
Смысл свободы, писал И.Берлин, заключается не только в отсутствии человеческой фрустрации по поводу каких-либо неудовлетворенных желаний (что было бы достижимо за счет простого подавления желаний), но также и в отсутствии препятствий к возможным выборам и активностям, которые могли бы потенциально привлечь к себе человека. Поэтому свобода зависит не только от того, хочет ли индивид двигаться, и как далеко, но и от того, как много дверей ему при этом открыто. Данная интерпретация свободы была частично предвосхищена Д.Локком писавшим, что "свобода есть идея, относящаяся не к хотению или предпочтению, но к лицу, обладающему силой действовать или воздерживаться от действия согласно выбору или расположению ума. Наша идея свободы простирается так же далеко, как и эта сила, но не дальше. Ибо где сдерживание ограничивает эту силу либо где принуждение устраняет эту нейтральность способности той или другой стороны действовать или воздерживаться от действия, там свобода, а также наше понятие о ней сейчас же прекращается".[235] Этот тезис приобретает особенное значение применительно к политической свободе, где пространство действия индивида не только не исключает, но и в обязательном порядке предполагает контакт или взаимодействие с пространством свободы других. Такой свободе, писал К.Ясперс, обычно присущи два момента: страстное стремление к свободе и трезвость в оценке непосредственно стоящих перед ней целей.[236] Именно такая свобода, в терминах Ф.Достоевского, может восприниматься не только как "легкость", но и как "тяжесть".[237] И хотя, по мысли Ю.Хабермаса, политическая свобода всегда есть свобода субъекта, который сам себя определяет и сам себя осуществляет, это всегда свобода людей в условиях определенной системы правления. Иными словами, это свобода следовать своему желанию в случаях, когда этого не запрещает писаный закон. В то же время, естественная свобода заключается у него в том, чтобы не быть связанным ничем, кроме закона природы.
Для Ш.Монтескье политическая свобода человека состоит не в том, чтобы делать все то, что хочется. В обществе, где есть закон, свобода может заключаться лишь в том, чтобы делать то, чего должно хотеть, и не быть принуждаемым делать то, чего не должно (по закону) хотеть.[238] Обладание политической свободой поэтому предполагает у него правление законов, при котором гражданин не боится другого гражданина. Иначе говоря, Ш.Монтескье разграничивает политическую свободу, выраженную в государственном строе (и осуществляемую посредством разделения и взаимного уравновешивания властей), и политическую свободу, реализуемую в чувстве уверенности гражданина в собственной безопасности.[239]
Как уже упоминалось ранее, политическую свободу К.Ясперс считал фундаментальной, предваряющей все иные свободы. По его мнению, воля к созданию основанного на праве мирового порядка ставит своей целью не просто свободу, но политическую свободу, открывающую перед человеком возможность подлинного выбора.[240] Возможно, что именно поэтому для Р.Рейгана политическая свобода есть наиболее фундаментальное из всех прав человека.[241]
Справедливости ради следует заметить, что политическая свобода интерпретируется порой не только как внутренняя свобода гражданина или народа, но и как внешняя свобода государства, которая сочетается известным образом с внутренней политической несвободой. Однако этот вид политической свободы здесь не рассматривается.
Ф.Мозер политической свободой считал свободу гражданина думать, говорить и писать.[242] Д.Брайс видел в ней участие граждан в управлении делами общества, а Ф.Хайек - их участие в публичной власти и законотворчестве. Опираясь на авторитет Д.Дьюи, Ф.Хайек подчеркивал активное начало политической свободы, как распоряжения властью осуществления чего-либо. Отсутствие внешнего принуждения (как у Д.Локка и Ш.Монтескье) он называл негативной (в юридическом смысле) стороной свободы.
В.И.Ленин политической свободой считал, прежде всего, право народа выбирать своих уполномоченных в парламент. Все законы при этом должны предварительно обсуждаться и публично издаваться, все налоги назначаться исключительно органом народного представительства. Политическая свобода означала для В.И.Ленина также право народа выбирать себе чиновников, устраивать обсуждения государственных дел, издавать без всяких разрешений книги и газеты.[243] Г.Честертон политической свободой считал возможность открыто выражать то, что тревожит достойного, но недовольного члена общества.[244] А у А.Моруа она выступает как признание меньшинством власти большинства, честно завоеванной в ходе выборов и при условии, что большинство уважает интересы всех граждан, независимо от их убеждений.
Д.Хауард считал политическую свободу правом выражать себя полностью и свободно высказывать взгляды, которые могут показаться другим неортодоксальными, еретическими или неприемлемыми.[245] По мнению Р.Люксембург, политическая свобода есть свобода инакомыслия, свобода тех, кто думает по-иному, ибо все социально воспитывающее, очищающее и оздоровляющее зависит именно от этого условия, теряющего свою эффективность в условиях, когда политическая свобода становится привилегией.[246]
Следует заметить, что современные определения политической свободы отличаются порой сложностью внутренней структуры и идеологии. Например, у Д.Ролза свобода может быть понята, если мы обратимся к трем положениям: субъектам, которые свободны; сдержкам и ограничениям, от которых свобода освобождает; а также к тому, что именно субъекты свободны предпринимать или не предпринимать.[247] Б.Малиновский структурно подразделял свободу на цель, осуществляющее действие и результат. В его концепции свобода сохраняется лишь при условии, если: цель свободно избирается индивидом или группой, а не индоктринируется; осуществляющее свободу действие предпринимается в условиях автономной ответственности ее субъектов, а не контролируется принудительной властью; результаты свободной активности распределяются между ее участниками, а не отбираются внешней по отношению к ним силой.[248]
Для Л.фон Мизеса свобода означала возможность индивида моделировать свою жизнь по собственному плану, который не навязывается ему властями с помощью аппарата принуждения. При этом действия индивида ограничиваются не насилием или угрозой его применения, а только лишь физической структурой его тела и естественными пределами его возможностей.[249] Л.фон Мизес писал, что история западной цивилизации - это история непрекращающейся борьбы за именно таким образом понимаемую свободу. Для Д.Буша свобода означает право людей жить без страха перед вмешательством правительства в их жизнь, без страха перед травлей со стороны сограждан и, соответственно, без ограничения свободы других.[250]
Для Д.Сороса в свободе важна возможность равноценной альтернативы. Если альтернативы менее привлекательны, чем то, что индивид уже имеет, или если изменение его положения связано с большой затратой усилий и жертвами, то следует считать, что индивид несвободен и подвергается эксплуатации. Если же альтернативы не хуже того, что у человека уже имеется, тогда он свободен и независим. Иными словами, свобода максимальна, когда индивид имеет равноценные альтернативы своему status guo.
По мнению Р.Рейгана, свобода - это право ставить под сомнение и менять установленный порядок вещей. Это постоянное преобразование рынка, способность всюду замечать недостатки и искать пути их исправления. Это право на выдвижение идей, которые кажутся несерьезными для специалистов, но которые, возможно, найдут поддержку простых людей. Это право на претворение в жизнь мечты, следуя голосу своей совести даже в окружении сомневающихся. Это признание того, что ни один человек, учреждение или правительство не владеет монополией на правду, что жизнь человека обладает бесконечной ценностью, и что поэтому она не бессмысленна.[251]
Д.Адамс говорил, что единственный способ сохранить свободу - это отдать ее в руки народа. Однако успех передачи свободы в руки народа в посттоталитарных странах зависит во многом от совершенства придуманных для этого конституционных механизмов. Действие же последних неоднозначно, ибо оно способно влиять не только на юридическую и политическую действительность. Предостерегая нас от угрозы возникновения фальшивых моральных состояний, связанных со свободой, Д.Рисмен приводит пример девочки в американской прогрессивной школе, которая спрашивает: "Учитель, сегодня мы снова должны делать только то, что нам хочется делать?"[252]
ИСТОКИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ
Истоки политической свободы, как главного фактора органической конституционной нормативности, могут рассматриваться в религиозном, философском, историческом, идеологическом и иных аспектах. Важны, как всегда, будут результаты. "Каждый человек, - писал И.Кант, - как было показано, по природе свободен, и ничто не в состоянии поставить его в подчинение какой-либо земной власти, за исключением его собственного согласия".[253] "Естественная свобода человека заключается в том, что он свободен от какой бы то ни было стоящей выше него власти на земле и не подчиняется воле или законодательной власти другого человека, но руководствуется только законом природы".[254]
В современной интерпретации оба тезиса, по-видимому, означают, что в естественном состоянии индивиды свободны до момента, пока их воля не подчинена другим людям в результате насилия или договора, то есть властью политики. У И.Канта люди в естественном состоянии не спрашивают разрешения на свои действия у какого-либо другого лица и не зависят от чьей-либо воли.[255] Изменить это состояние они могут лишь по ясно выраженному велению Бога, либо добровольно подчинившись кому-либо из своего окружения. Иными словами, как писал Т.Джефферсон, человечество родилось без седла на спине.
Б.Данем считал, что в поведении каждого человека имеется нечто, имеющее для него особо важное значение. Это нечто эгоцентрично и окружено любовью, которой человек способен любить лишь самого себя. И хотя индивиду обычно трудно пережить провал своих планов и надежд, он в силах перенести это, если в душе его продолжают жить некие идеалы. Однако, если человек не может принимать самостоятельные решения, если он лишен свободы воли, то для него действительно "нет ничего хорошего в подлунном мире".[256] Как писал В.фон Гумбольдт, человек изначально обладает пространством недетерминированной свободы, включая саму способность реализовать ее. "Я считаю доказанным, - писал он, - что истинный разум не может желать человеку никакого другого состояния, кроме того, при котором не только каждый отдельный человек пользуется самой полной свободой, развивая изнутри все свои своеобразные особенности, но и физическая природа обретает в руках человеческих ту форму, тот образ, который произвольно придает ей каждый человек в меру своих потребностей и наклонностей, будучи ограничен только пределами своей силы и своего права. ...Принцип этот должен лежать в основе всякой политики, и из него следует прежде всего исходить".[257]
Согласно И.Канту идея свободы воплощается в интеллектуальном начале, которое играет роль причины по отношению к действию.[258] Законы свободы, в отличие от законов природы, он называл этикой, подчеркивая при этом, что по законам физики все происходит, а по законам этики все должно происходить. Поэтому каждому разумному существу, обладающему волей, принадлежит также идея свободы, которой оно руководствуется. Н.Бердяев также утверждал примат экзистенциального субъекта над объективным миром: дуализм, волюнтаризм, динамизм, творческий активизм, персонализм, антропологизм и философию духа. По его мнению, философия примата бытия есть философия безличного. На самом же деле свобода невыводима из бытия, она укоренена в ничто, в бездонности, в небытии. Свобода безосновна, не определена, не порождена бытием. Есть прорывы, бездны, парадоксы, есть трансценсы. Лишь поэтому существуют свобода и личность. Примат свободы над бытием есть для Н.Бердяева примат духа над бытием.[259]
Для Ф.Хайека интеллектуальная свобода основывается на широких основаниях общей свободы и не существует без этого.[260] По мнению А.Камю, фактическая свобода индивида развивается медленнее, чем его представления о свободе. Такая последовательность заметна, например, во взаимоотношениях идеи свободы и политической практики в XVII в., когда в философию барокко проникла известная формула: свобода есть познанная необходимость (Б.Спиноза). В духе "века разума" Г.В.Лейбниц предложил определение свободы как интеллектуального детерминирования человеческой активности в направлении к лучшему. У Т.Гоббса свобода реализовалась в рамках упорядоченного социума, так что наибольшая свобода подданных у него проистекает из умолчаний закона.[261]
В наше время можно говорить о двух основных концепциях свободы, имеющих некие автономные аргументы. Первую из них Ф.Хайек называл эмпирической и несистематизированной, а вторую - спекулятивно-рационалистической. Эмпирическая концепция основана на идее саморазвитии институтов свободы, которые спонтанно "выросли и были", а рационалистическая, наоборот, возникла как элемент утопии, которую, хоть и безуспешно, люди сознательно и целенаправленно пытались осуществить. К сторонникам первого направления примыкают Д.Юм, А.Смит, А.Фергюсон, Э.Берк, Ш.Монтескье, Б.Констан, А.Токвиль, второе же представляют энциклопедисты и Ж.-Ж.Руссо, Ж.А.Н.Кондорсе, Т.Гоббс, Т.Пейн и др.[262]
У П.Кропоткина истоки политической свободы соотнесены с двумя противоположными парными тенденциями или традициями бытия: римской и народной, императорской и федералистской, власти и свободы. "Самые упорные стачки и самые отчаянные восстания происходили из-за вопросов о свободе, о завоеванных правах, - более, чем из-за вопросов о заработной плате", - писал он.[263] По мнению же Д.Писарева, поскольку людьми все шире осознавалась необходимость статуса полноправности, постольку все увеличивающееся сознание этой необходимости легло в основание идеи прогресса в целом.
Анализируя концепцию свободы у Гегеля, Ф.Фукуяма писал, что у Гегеля свобода и природа находятся в оппозиции друг к другу. Свобода у Гегеля начинается там, где заканчивается природа, то есть там, где человек способен преодолеть свое природное начало и осознать свою самость.[264] Поэтому свобода у Гегеля есть эволюционно развертывающийся феномен. Если восточные народы знали, что лишь один мог быть свободен, а греческий и латинский мир утверждали, что только некоторые свободны, то мы знаем, что абсолютно все люди являются свободными. По мнению Ф.Фукуямы, Гегель был философом свободы, видевшим кульминацию исторического процесса в реализации свободы в конкретных политических институтах. Оставаясь "чемпионом государственности", Гегель должен быть также причислен к защитникам гражданского общества, частной экономики и политической свободы, не зависящей от государственной власти и контроля.
Продуктом цивилизации считал политическую свободу Ф.Хайек. По его убеждению свобода есть типичный артефакт цивилизации, избавивший человека от оков группы, настроениям которой вынуждены были в прежние времена подчиняться лидеры. Для Э.Фромма истоки свободы коренятся прежде всего во внутренней природе человека. Родившись именно из этого источника, как он считает, свобода стала идолом иудеев в Египте, рабов в Риме, немецких крестьян в XVI в., а также рабочих в Восточной Германии в ХХ в. И хотя идею авторитета и порядка Э.Фромм также считал имманентно присущей человеку, императив свободы для него в человеке доминирует. М.Джилас считал природу человека непригодной для любого идейного обуживания и подлаживания, в том числе и под модель будущего. Ведь, как говорил Ф.Мориак, власть государства будет "из века в век оказываться беспомощной перед силой святой души".[265]
Исторически, считал Гегель, право субъективной свободы составляет поворотный пункт между античностью и Новым временем. Это право, первоначально высказанное в христианстве, превратилось затем в формообразующий принцип мира. В качестве сопутствующих форм его сопровождали любовь, романтическое восприятие окружающего, стремление к вечному блаженству, моральность и совесть, трансформировавшиеся позже в принципы гражданского общества и иные существенные моменты нового политического устройства.[266]
Как политический институт, свобода впервые обнаруживает себя в афинском полисе. Именно там, писал К.Поппер, у нее появились первые враги в лице невежества, предрассудков, страсти сильных к завоеваниям и власти, а бедных к еде. Тем не менее, главной угрозой свободе, по его мнению, всегда оставались "ложные идеи". По мнению же К.Ясперса, в Древней Греции существовала свобода, не повторявшаяся более нигде. Именно там полис заложил основу западного понимания свободы, как идеи и как политической реальности.
Л.фон Мизес писал, что поскольку на Востоке идея свободы не разрабатывалась, греки оказались первыми, кто понял значение свободных институтов. Несмотря на то, что множество достижений науки пришло в мир из восточных источников, идея свободы так и осталась изобретением Древней Греции. Отсюда свобода перешла к римлянам, став затем общим достоянием Западной Европы и Северной Америки. Постепенно свобода проникла в основу всех представлений западного общества о справедливо устроенном мире, существенно стимулировав тем самым идеологию свободного предпринимательства и инициативы.[267] Поскольку, как писал Гегель, промышленное сословие всецело зависит от себя, неудивительно, что широкое осознание роли свободы впервые проявилось в городах.[268]
В платоновском абстрактном государстве субъективная свобода еще не действует, ибо там власти указывают индивидам на их занятия. В свою очередь, на Востоке практическое распределение занятий очень долго определялось исключительно рождением.[269] И только в городах Западной Европы исторически сложившиеся обстоятельства и среди них, в первую очередь, неограниченность выбора профессиональных занятий потребовали индивидуальной свободы. Пуританская революция вывела на сцену истории принцип свободы личности и совести - "Божественные требования", за которые необходимо бороться, как заявил О.Кромвель в речи перед Парламентом 4 сентября 1654 г. Пережив реставрацию, идеи О.Кромвеля возродились в "Славной революции", утвердившей приоритет парламента в издании законов, беспристрастность юстиции, охрану прав личности, свободу мысли и печати, а также религиозную терпимость в качестве "истинных и древних прав народов этой земли".[270]
В целом, как считает М.Фридман, ситуация политической свободы на Западе в XIX и начале XX в., в сочетании с капиталистическим рынком, оказалась едва ли не изъятием из общей тенденции исторического развития. В остальных же регионах мира чрезмерная концентрации власти "привлекла и вырастила людей иной породы".
ИМПЕРАТИВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ
По-видимому, наиболее полно императив свободы выражен у И.Канта: "Во всех своих начинаниях разум должен подвергать себя критике и никакими запретами не может нарушать ее свободы, не нанося вреда самому себе и не навлекая на себя нехороших подозрений. Здесь нет ничего столь важного по своей полезности и столь священного, что имело бы право уклоняться от этого испытующего и ревизующего исследования, не признающего никаких авторитетов. На этой свободе основывается само существование разума, не имеющего никакой диктаторской власти, и его приговоры всегда есть не что иное, как согласие свободных граждан, из которых каждый должен иметь возможность выражать свои сомнения и даже без стеснения налагать свое veto".[271] Поскольку же, как говорил Ж.Ламетри, предвидеть заранее, какое влияние те или иные суждения окажут на общество невозможно, предоставление людям полной свободы высказывания мнений является более предпочтительным, чем ее ограничение.[272]
Для А.Богданова борьба за свободу слова, собраний и печати означала борьбу за уменьшение враждебных, разрушительных для сложной системы общественной активности воздействий.[273] Его позиция по этим вопросам во многом предвосхитила современное понимание роли и значения политико-информационных отношений в обществе. Поскольку информация по своей природе непредсказуема, свободный доступ к ней связан с риском потери стабильности в обществе, что тревожит всякое правительство и государство. Поэтому для сохранения своей свободы общество нуждается в специально созданных гарантиях против государственного вмешательства в информационную сферу. Именно по этой причине информационная свобода является важнейшей частью, элементом политической свободы.
Следует также сказать, что признавая политическое равенство индивидуальных оценок любого информационного сообщения, мы тем самым исходим из презумпции множественности феноменов политической правды. С другой стороны, ситуация множественности политических истин требует, чтобы основные управленческие решения принимались на демократической конкурентной основе.
Ф.Хайек писал, что конечной целью свободы является расширение человеческих способностей, позволяющее каждому поколению прилагать к уже имеющемуся интеллектуальному потенциалу общества собственную долю возросшего знания, усовершенствованных моральных и эстетических представлений. Поэтому ничто у него не должно дозволяться или запрещаться ко внедрению на основе каких-либо априорных представлений. Только будущий опыт может показать, что же на самом деле является более ценным.[274]
Развитие информационной свободы закономерно приводит к тому, что принимающие решения лица все более ориентируются не на внешние авторитеты, а на разумность собственного суждения и интуиции, индивидуальный вкус и знания. По мысли Л.Шестова, применение общих правил в этом случае имеет лишь относительную ценность. Всюду природа настоятельно требует индивидуального творчества. "Люди не хотят этого понять и все ждут от философии последних истин, которых не было, нет и никогда не будет", - писал он.[275]
Конечно, сделать практически применимым императив свободы можно лишь с оговоркой, что мы согласимся за это как-то платить. Чаще всего оказывается, что размер этой платы как раз и предопределяет темп нашего прогресса. Расширяя свободу, мы ускоряем свое движение вперед и наоборот. Что же касается платы за свободу, то она подразумевает не только прямые материальные вложения в прогресс, но также и компенсацию невыгод, которые могут воспоследовать из нашей любви к быстрому движению.
Выбирая прогресс и свободу, мы соглашаемся платить за их последствия, а не за предварительное ограничение свободы. Это важное требование, ибо компенсация последствий от реализации свободы означает нечто принципиально иное, чем плата за априорное ограничение свободы от возможных злоупотреблений ею. Как заметил однажды О.Кромвель, человек не поднимется выше, если будет заранее знать, куда он не собирается.
Касаясь данной темы Ф.Хайек писал, что меры защиты свободы обычно не должны использоваться против организаций - мощных рычагов разумно действующего человека. Однако выбор свободы является безусловным аргументом против всех исключительных, привилегированных, монополистических организаций, использующих принуждение и насилие для предотвращения попыток других "сделать что-либо лучше".[276] Таким образом, политико-информационная свобода существенна прежде всего в качестве "средства оставить пространство для наперед не видимого и непредсказуемого". Сегодня мы нуждаемся в свободе для реализации множества целей. При этом можно предположить, что многое из того, что будет сделано нами в условиях свободы, не понравится нам впоследствии. Тем не менее, свобода, реализованная даже одним человеком из миллиона, может оказаться более важной для общества, чем все сделанное в условиях ограниченной свободы остальными. Обеспечить же свободу новатору мы можем, лишь предоставив ее всем. При этом не исключено, писал М.Элиаде, что перешагнуть старые самоограничительные архетипы можно будет лишь приняв философию свободы, допускающую Бога.
Хотя аргументы в пользу свободы обычно убедительны, они не самоочевидны. Многим императив свободы кажется по-прежнему более слабым, чем императив силы или директивных централизованных усилий. К.Поппер писал, что логика силы проста и весьма часто используется мастерски. Противоположный тип политики значительно более сложен. Более того, логика политики, не опирающейся на силу, то есть, логика свободы вряд ли еще по-настоящему осознана.
Разумеется, императив свободы важен не только философски, но и прагматически. Характерно однако, что и практические аргументы в пользу свободы обычно обнаруживаются у философов. Говоря о перспективах достижения "всеобщего правового гражданского общества", И.Кант замечает, что "только в обществе, и именно в таком, в котором членам его предоставляется величайшая свобода, а стало быть существует полный антагонизм и тем не менее самое точное определение и обеспечение свободы ради совместимости ее со свободой других, - только в таком обществе может быть достигнута высшая цель природы: развитие всех ее задатков, заложенных в человечестве; при этом природа желает, чтобы эту цель, как и все другие предначертанные ему цели, оно само осуществило".[277] В самом деле, говорил А.Эйнштейн, все действительно великое и вдохновляющее в мире было создано в атмосфере свободы.[278] Недаром А.Токвиль констатировал, что переезжая из страны, в которой господствует свобода, в страну, где ее нет, путешественник обычно поражается перемене. В первой все бурлит и активно, во второй все обездвижено и пассивно.[279]
Я убежден, писал А.Сахаров, что свобода убеждений, наряду с другими гражданскими свободами, является основой научно-технического прогресса, гарантией против использования его достижений во вред человечеству, а потому и основой экономического и социального прогресса. Иными словами, она является политической гарантией социальных прав.[280] Р.Рейган не верил, что прогресс предначертан, а потому считал, что ключом к прогрессу является интеллектуальная свобода. Достижения науки идут обычно быстрой чередой, если вместо закрытости и подавления в обществе учреждается свобода философии, говорил он.[281]
Сегодня очевидно, что взрыв технического прогресса произошел как раз в тех странах, где знания и информация двигались свободными потоками, а творческий импульс не был ничем ограничен. Уже в 1989 г. Л.Валенса признал, что, чем выше материальный и технический уровень общества, тем больше оно нуждается в свободе.[282] Для достижения свободы необходим отход от тоталитарных структур, нужны демократические механизмы, компромиссы, плюрализм. Ведь именно они являются, в конечном счете, единственными политическими гарантиями против безысходности и страха.
По мнению Л.Эрхарда, народ, который для защиты свободы не рискует идти на жертвы, сметается затем с исторической арены. Недаром Ж.-М.Леге писал, что фундаментальные свободы нужны не только ученым, но и всем остальным людям, ведь без их обеспечения невозможно никакое развитие. В свое время Ф.Энгельс писал И.Беккеру, что чем свободнее организация, тем она крепче.[283] Впрочем, еще ранее Д.Локк связывал свободу и силу организации, говоря, что правитель, установивший законы свободы для защиты людей против угнетения и узости партии, становится неодолимым для своих соседей.[284] Как считал Р.Рейган, только свобода ведет к дружбе и миру между народами. Только она - истинный победитель.
По мнению С.Хантингтона, свободные системы обладают лучшей иммунной защитой от революционных переворотов, чем системы авторитарные. Тоталитарные страны обычно воюют с демократическими странами или друг с другом. Начиная же с XIX в. демократические и свободные страны, как правило, друг с другом не воевали. С тех пор, как этот феномен существует, распространение свободы в мире раздвигает пространства стабильности и покоя.[285] Политическая свобода является основным средством против распространения патернализма, авторитаризма, тоталитаризма и диктатуры. Без свободных выборов, неограниченной свободы печати и собраний, свободной борьбы мнений жизнь общественных учреждений замирает. Только бюрократия при этом может оставаться действующей.[286]
Подавление или ограничение свободы даже в каком-либо отдельном ее элементе ведет общество к застою, расширению административной власти правительства, уменьшению личной свободы и тоталитаризму, выдаваемому за благо. Логично, что альтернативой данному процессу может быть лишь движение к "вершинам личной свободы". Как напоминает нам в связи с этой проблемой Ф.Хайек, требование, чтобы правительство руководствовалось мнением большинства имеет смысл только тогда, когда это большинство независимо от правительства. Ведь идеал демократии покоится на вере, что идеи, руководящие правительством, возникают на основе спонтанных процессов в независимом от политического контроля пространстве индивидуальных мнений.[287] Следуя данной логике, ошибочно просить: "Государство, приди мне на помощь, защити меня и помоги мне", но правильно требовать: "Государство, не заботься о моих делах, но предоставь мне свободу и оставь мне от моей работы столько, чтобы я мог сам обеспечить свое существование и судьбу своей семьи".[288] Современное индустриальное общество не смогло бы достичь успеха, если бы не воспользовалось огромной свободной энергией людей.
С другой стороны, свобода демонстрирует свою эффективность лишь там, где ей удается укорениться в кодексе нравственности и праве народа, стать общеобязательным законом, высшей ценностью общества. Важным при этом остается также и вопрос о полноте свободы. В этом смысле примечательно, что для Л.Эрхарда свобода представляет собой единое и неделимое целое. По его мнению, политическая и хозяйственная, а также личная свобода человека составляют сложное единство, из которого немыслимо удалить какую-либо часть без того, чтобы не разрушить все остальное.
Следует признать, что главная угроза индивидуальной свободе в современном мире исходит, как правило, от государства. Эта угроза особенно велика в посттоталитарных странах, где идеалы свободы долго подавлялись и где патернализм превратился едва ли не в политический архетип. По мнению К.Поппера, особо опасным для индивидуальной свободы является государственное "интервенционистское планирование". Патернализм, распределительная налоговая политика в пользу обездоленных, писал С.Липсет, независимо от того, насколько моральной она на первый взгляд нам кажется, приводит к обратным результатам, сдерживая инвестиции и рост производительности.[289] Было бы заблуждением, однако, считать, что свобода хороша лишь своими перспективами высокой производительности. Более важно в ней то, что свобода самодостаточна. Как только люди поймут, писал Д.Ролз, что их основные свободы могут быть эффективно осуществлены, они не променяют ни грана свободы на улучшение в своем экономическом благосостоянии.[290]
ФАКТОРЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ
Факторами политической свободы в данной работе считаются условия и обстоятельства, влияющие на реализацию этого вида свободы. В своей правовой части они часто выступают юридическими гарантиями свободы. Не являясь составными элементами свободы, данные факторы, тем не менее, существенно влияют на объем, глубину и устойчивость политической свободы. В конституционном смысле они выступают как гарантии свободы, с помощью которых обеспечивается ее реализация и регулируется ее объем.
Одним из важных органических факторов свободы является ее психологическая привлекательность. Опыт коммунизма и фашизма ХХ в. показал, что безопасность индивида, когда он всецело доверяет свою судьбу государству, не увеличивается, а уменьшается. Опустошительные войны государственных машин, банкротство социалистических государств-собственников стали весомыми аргументами в пользу позитивного психологического восприятия свободы. Как писал С.-О.Литторин, уменьшение безопасности индивида, доверившего свою судьбу государству, очевидно,[291] ибо не злоупотребление свободой, а дисциплина и безоговорочная преданность своей стране подвигли на преступления немцев и японцев, породили зверства, которых не вместить человеческому воображению.[292] Так или иначе, но тезис Т.Дезами о том, что "лучше бурная свобода, чем спокойное рабство" в наше время получил новые многочисленные подтверждения.
Некогда Сен-Симон описал психологическую привлекательность свободы на примере: "Англичанин получает место в Индии... Там он может, если захочет, завести себе гарем; там его окружают сотни прислуги: одни обязаны разгонять мух; ...другие всегда готовы нести его в паланкине; вся масса населения пресмыкается перед ним; он волен обрушиваться палочными ударами на каждого индуса, который недостаточно поспешно или умело исполняет его желания. И вот этот самый англичанин, утопающий в Индии в море самовластных наслаждений, приобретя состояние, спешит вернуться в Англию, чтобы снова отдаться тем удовольствиям, которые доставляет равенство. По прибытии в английский порт он тотчас же чувствует, как его жестко заталкивают локтями люди из народа, и это нисколько не возбуждает в нем желания вернуться в страну, где все сторонятся, чтобы очистить ему место".[293]
Представителями творческих профессий свобода осознается обычно как обязательное условие профессиональной жизни. Для А.Тарковского свобода не существовала в качестве выбора, а была естественным душевным состоянием. При этом, как он полагал, можно быть социально и политически "свободным", но погибать от чувства бренности, замкнутости и отсутствия будущего.[294] Говоря о естественной привлекательности свободы, Е.Анчел подчеркивала, что раз пережитое ощущение свободы живет в человеке, как правило, всю оставшуюся жизнь.[295]
Изучая опыт управления передовых американских корпораций, Т.Питерс и Р.Уотерман пришли к выводу, что обязанности персонала выполнялись в таких корпорациях с удвоенной энергией, если работникам предоставлялся хотя бы минимальный контроль над своей профессиональной судьбой.[296] Не напрасно А.Токвиль признавался, что не только любит свободу, но и преклоняется перед ней. Как писал этот выдающийся эксперт по вопросам политической свободы, психологическая привлекательность свободы неотразима, прежде всего, потому, что разум не может предвидеть собственный прогресс. Говорить же о прогрессе в условиях несвободы интеллектуально нечестно. Подобно тому, как возможность лжи превращает следование правде в свободно избранное поведение, возможность безнравственного поведения превращает нравственный выбор в сознательный акт, писал Ю.Лотман. В обоих этих случаях, однако, важна свобода, без которой невозможна индивидуальность. С другой стороны, в индивидуальном качестве у Ю.Лотмана может выступать и группа, если она обладает реальной свободой выбора каких-либо поведенческих вариантов.[297] Особенно заметна привлекательность свободы в ответственные политические моменты. Именно поэтому, как писал Х.-Г.Гадамер, исторические мгновения, когда свободное действие играет решающую роль, мы называем эпохальными, а его субъектов - "всемирно-историческими индивидами". Всюду требуется человеческая свобода, история прослеживает сцены свободы, и в этом ее величайшая прелесть.
Фактором свободы является также ее спонтанность, непредсказуемость. Свободу нельзя запрограммировать, определив ее будущую меру в каком-либо фиксированном виде. И хотя в реальной жизни мы сталкиваемся с балансом свободы и ее ограничений, этот баланс всегда остается подвижным. Подвижный баланс свободы и порядка отображается в конституциях различных стран по-разному. И если в Конституции США 1787 г. Конгрессу запрещено издавать законы, ограничивающие свободу слова, совести, собраний и петиций, то в конституциях посттоталитарных стран дело обстоит иначе. Как принято считать, недостаток свободы приводит к стагнации, а ее избыток - к хаосу.[298] Однако установить полезную конституционную меру свободы априори невозможно. Никто не бывает полностью свободен равно как и полностью порабощен. Но если исходить из презумпции, что конституция - это главный правовой документ гражданского общества, то ее приоритеты должны располагаться на стороне свободы. Именно свободу конституция в первую очередь призвана гарантировать.
Принцип равной свободы, писал Д.Ролз, представляет собой образцовый стандарт конституционного соглашения. Он включает в себя фундаментальные свободы личности, а также свободу мысли и совести в состоянии обеспеченной защиты. Что же касается принципа экономического неравенства, выгодного всем, то его место - в текущем законодательстве. В этой схеме приоритет свободы перед выгодным для всех экономическим неравенством отражает приоритет конституции перед текущим законодательством.[299] Психологически же человек ближе к свободе, чем к порядку, поэтому ничто не может преобразовать природу человека в природу термита. Индивид стремится защищать свободу даже вопреки воле большинства. Именно поэтому политическая борьба так часто актуализируется между индивидуальными культурными запросами и коллективными требованиями масс. Достижимо ли их равновесие с помощью определенной организации, или этот конфликт неразрешим, остается открытым вопросом.
Ж.Батай писал, что люди, в частности, отличаются от животных еще и тем, что способны соблюдать двусмысленные запреты. Соблюдая принятые запреты, они одновременно испытывают потребность их нарушать. Сознательное нарушение запретов требует от человека мужества и решительности, и если они у него есть, можно считать, что человек состоялся. С другой стороны, писала С.де Бовуар, кроме стремления утвердить себя, человеку присущ также страх перед свободой, соблазн "превращения в бездушный предмет". Именно следование по этому пути делает человека инструментом чужой воли, лишая его тем самым трансцендентности. Любви человека к свободе сопутствует также его стремление к равенству. Как писал А.Токвиль, равенства люди требуют не только в состоянии свободы, но также и в состоянии рабства. Поэтому требование равенства иногда становится серьезной угрозой свободе. Подчеркивая реальность подобной угрозы, П.Новгородцев писал, что людям легче переносить бедность, порабощение и варварство, чем примириться с существованием аристократии.[300]
Возможность злоупотребления свободой также является ее важным человеческим фактором. По мнению М.Фридмана, вера человека в свободу предполагает известное право на ошибку. Если, например, человек предпочитает жить лишь удовольствиями, обрекая тем самым себя на безрадостную старость, никто не вправе ему помешать. Ведь всегда существует возможность, что этот человек прав, а мы ошибаемся. Отсюда следует, что и смирение может быть добродетелью верящих в свободу. Самомнение же в вопросах распоряжения свободой чаще всего свойственно патерналисту.
Хотя бескомпромиссная защита свободы обычно как-то подталкивает общество к хаосу рынка и непредсказуемым последствиям демократии, не следует забывать, что в лучших конституционных образцах защита свободы не останавливается не только перед возможностью актов гражданского неповиновения, но и перед демократическим восстанием. Ведь именно таким был первоначальный политический и моральный выбор создателей конституции. Сегодня выбор между свободой и предсказуемой стабильностью для многих стран и народов остается все еще открытым. Конечно, бескомпромиссная защита свободы, в известной мере, оправдывает "бесов" Ф.Достоевского, мечтающих "все эти логарифмы отправить к черту". Как признает П.Новгородцев, у "бесов" в любой ситуации последователи найдутся, ибо так человек устроен.
Считая политический хаос фактором свободы, С.Франк называл его выражением "первичной свободы как субстрата внутреннего самобытия", в котором обнаруживается "все бессмысленное, проистекающее из глубины непосредственности, всякий каприз и всякая дикая страсть, всякое "самодурство" (превосходный в своем первичном этимологическом значении термин!)".[301] Проявлениями "крайностей" свободы у Д.Джойса могут стать всеобщая амнистия, карнавал с разрешенными вольностями для масок, наградные для всех, язык эсперанто и всемирное братство. Высвобождая "свободную лису в свободном курятнике", такая свобода материализуется не только в свободных финансах, ренте, свободной любви и свободной церкви в свободном гражданском государстве.[302]
Иначе говоря, вопрос о допустимых ограничениях свободы весьма сложен. В стратегическом смысле единственно приемлемым юридическим ответом на него может быть лишь закрепление конкуренции правовых норм, специально созданных как для поддержания приоритета свободы, так и для обеспечения минимально необходимых социальных уровней стабильности и порядка. Возможные и неизбежные коллизии при этом должны разрешаться эффективными институтами конституционной юстиции. В любом случае, толкование конституционных норм о свободе и ее ограничениях должно сохраняться за человеком.
Поскольку обретение свободы предполагает возложение морального бремени на тех, кто свободен, здесь не обойтись без этических противоречий. "От свободы, - писал В.Розанов, - все бегут: работник - к занятости, человек - к должности, женщина - к мужу. Всякий - к чему-нибудь".[303] Известно, что как теоретик И.Бентам презирал права и свободы человека, называя их "чепухой", а неотъемлемые права - "чепухой на ходулях".[304] В свою очередь, А.Герцен говорил, что иногда народам легче переносить рабство, чем справляться с даром свободы.[305] Характерно, что и у М.Хайдеггера апология "дневной стороны" свободы сопутствует параллельному признанию ее "ночной стороны" как абсолютной раскованности и произвола.
В дополнение к известному парадоксу демократии (массы решают, что править должен тиран), политическая теория знает также парадокс свободы, то есть ситуацию, в которой "задиры порабощают кротких", упраздняя тем самым некую первоначальную свободу. Поэтому, как предупреждал П.Клоссовски, хотя свобода совести и прессы ведет к абсолютной свободе, именно абсолютная свобода утверждает право сильнейшего на власть, противоречащее справедливости. Поэтому свобода всегда остается потенциально опасной, хотя обладать ею и упоительно. Таким образом, абсолютную неподвластность закону можно считать свободой не в большей степени, чем абсолютную власть закона. Если судьбой, как писал А.Камю, не управляют высшие ценности, ее царем становится случай. Мы же при этом сталкиваемся со страшной свободой слепца.
Хотя Т.Дезами и верил, что "из самой неограниченной свободы последует самый совершенный порядок",[306] на пути к этой действительно идеальной модели сильный все еще слишком часто запугает слабого, лишая его свободы. Еще хуже схема реализации свободы в деспотиях и диктатурах. Здесь, как говорил В.Гавел, единственной гарантией свободы остается верность авторитету, подарившему свободу.[307] Ситуация, однако, обещает выглядеть менее драматической, когда в роли дарителя свободы выступает не живая власть, а писаный закон - конституция.
Как известно, Д.Дьюи протестовал против неограниченной свободы, доказывая, что абсолютная свобода делает людей рабами собственных сиюминутных прихотей.[308] Избежать этого можно лишь в условиях свободы, для которой установлены известные пределы. Такие пределы могут быть обнаружены как в самой природе материального мира (Т.Гоббс), так и в особенностях протекания психических процессов у человека (Т.Липпс). Иногда же пределы свободы обнаруживаются в связанности человеческой воли каким-либо сакральным авторитетом (М.Лютер и Э.Роттердамский).
Кроме того, как сетовал А.Гамильтон, рвение и любовь к свободе слишком часто бывают проникнуты духом узкой и враждебной свободе подозрительности. Ведь уже давно было замечено, что в своем практическом применении свобода легко извращается. Например, Т.Дезами заботила угроза свободе со стороны "наследственных профессий", а Ж.-О.Ламетри опасался ограничения свободы по соображениям общественной пользы (для избежания того, что "вредит обществу"). Но в такой ситуации свобода будет ограничиваться не тем, что вредит обществу, а всего лишь тем, что люди считают таковым. Кроме того, вредное для общества сегодня может оказаться весьма полезным завтра. Ведь выгоды свободы становятся заметными лишь после того, как свобода успевает "состариться".
С другой стороны, как доказывал Б.Скиннер, превознесение идеала личной свободы может привести к тому, что общественный строй рухнет.[309] У Ж.Полани безусловная страсть людей к свободе ведет к безусловным конфликтам и войнам.[310] В итоге все это показывает, что возможности злоупотребления свободой сравнимы с возможностями злоупотребления такими "всеобщими эквивалентами" цивилизации, как власть и деньги. Справедливость данного сравнения доказывает, что проблема свободы является этической в своей основе. Недаром у К.Ясперса конфликт между свободой и ее возможными ограничениями предстает как конфликт между раскованным бытием и деспотизмом "фиксированных убеждений".[311]
В известном смысле нормальное состояние политической свободы напоминает состояние плазмы, удерживаемой внешним электромагнитным полем. Иначе говоря, сохранение и поддержание всегда неустойчивого баланса политической свободы и порядка требует громадных затрат социальной энергии. Недаром М.Возняк напоминает нам об альтернативах свободы у Н.Костомарова: а) поддерживая государство, принимайте необходимость цензуры, "Третьего отделения", Петропавловской крепости, закрепощения мысли и слова; б) желая исключительно свободы, рискуйте государством, готовьтесь к его возможному распаду.[312] Это ведь лишь в теории Н.Михновского "пышное развитие индивидуальности возможно только в государстве", а между свободой и государственностью не существует противоречия.[313]
Как считал Ч.Милош, политической свободе вредит любая преувеличенная забота об общественном благе. В самом деле, если индивидуальная свобода должна ограничиваться во имя общественной пользы, то "большая польза" может оправдать безграничное ограничение свободы человека.[314] Как известно, Т.Гоббс считал целесообразным ограничение естественной свободы гражданским законом, а Аристотель считал приемлемым надзор за лицами, чей образ жизни вредит государственному строю. Даже отцы-основатели США, по свидетельству П.Готфрида, допускали, что свобода должна быть выгодна лишь лояльным членам политического сообщества.[315]
Рассуждая о возможных ограничениях гражданской свободы, К.Маркс считал цензуру критикой свободы слова на основе правительственной монополии, действующей не "острым ножом разума", а "тупыми ножницами произвола".[316] В свою очередь, Д.Сорос писал об угрозе свободе со стороны всякой логически рафинированной политической системы. На теоретическом уровне этот тезис Д.Сороса хорошо иллюстрируется "Утопией" Т.Мора, "Чудесным новым миром" О.Хаксли и "1984" Д.Оруэлла. С другой стороны, следует согласиться, что для своего практически эффективного осуществления свобода настоятельно требует определенной системы логических координат. Ведь даже если свобода и причинность являются антиподами, писал Р.Дал, мы все равно не можем действовать свободно, не понимая правил причинности.[317]
По убеждению Г.Шпета, вся человеческая история демонстрирует борьбу свободы, представленной в культуре, с консерватизмом, воплощенным в государстве. Из данного противостояния у него вытекает вечный спор между "всегда невежественным" государством и свободной интеллигенцией. В самом деле, как писал еще патриарх Тихон, свобода есть великое благо, если это свобода, не переходящая в государственный произвол и насилие. Но нет свободы, когда нельзя высказать свое мнение без опасения попасть под обвинение в контрреволюции.[318] В этом смысле В.фон Гумбольдт предостерегал против ограничения свободы какими-либо пекущимися об общественном благе законами или наградами.
В свою очередь, Ч.Милош писал об уничтожении свободы политическим лицемерием. Так, по его мнению, было нечто неуловимое в атмосфере социалистической Варшавы и Праги, какое-то сочетание духа силы и несчастья, паралича и внешней подвижности. Какие бы слова мы не употребляли для определения этой атмосферы, писал он, очевидно, что даже если бы ад обеспечивал своим обитателям элегантные квартиры, изящную одежду, лучшие блюда и развлечения, одновременно принуждая их дышать воздухом этих восточноевропейских столиц, этого было бы вполне достаточно для адских испытаний.[319]
Следует еще раз признать, что провозглашая любовь к свободе, мы не можем осуждать частную собственность, финансовый капитал, конкуренцию, свободу договора, рекламу и власть денег. Наоборот, если некто утверждает, что его ум безо всех вышеперечисленных атрибутов современной цивилизации достаточен для организации наших усилий в интересах общественного добра, именно он являет собой воплощенную угрозу культуре, писал Ф.Хайек.[320] Чтобы избежать патернализма, общество должно выработать эффективные и весьма изощренные гарантии свободы. Осуществляя себя, свобода должна создать свой собственный мир и систему, найти себе некое внешнее выражение и наличное бытие.[321] Как считал Гегель, пространство индивидуальной свободы определяется объемом частной собственности, лежащей в ее основе. Поэтому он называл нечестным, аморальным и неэтичным утверждение, будто свобода может осуществиться вне связи с собственностью. "Представление о благочестивом, - писал он, - или дружеском и даже насильственном братстве людей, в котором существует общность имущества и удален принцип частной собственности, может легко показаться приемлемым умонастроению, которому чуждо понимание природы свободы духа и права и постижение их в их определенных моментах. Что же касается моральной или религиозной стороны, то Эпикур отсоветовал своим друзьям, намеревавшимся создать подобный союз на основе общности имущества, именно по той причине, что это доказывает отсутствие взаимного доверия, а те, что не доверяют друг другу, не могут быть друзьями".[322]
В ином месте он добавляет: "Свобода индивидуумов не должна быть чем-то единичным, она должна быть выражена и представлена в корпорациях. К институтам относятся: 1) свобода личности, 2) свобода собственности (французы быстро обрели ее благодаря революции - подтверждено в Code Napoleon), 3) публичное законодательство".[323] Проще говоря, человек свободен лишь тогда, когда его невозможно принудить делать то, от чего бы он отказался, будучи материально независимым.[324]
Как утверждали в древности на Крите, свобода - это высшая ценность общества, которая превращает блага в собственность тех, кто их приобрел. Блага же, приобретенные в рабстве, принадлежат правителям, а не управляемым. Если человек утрачивает свою собственность, то тем самым он превращается в социальное ничто. Поэтому судьба, безопасность и власть современного человека в значительной мере покоятся на его собственности. В рамках политических представлений западной цивилизации собственность священна, а неприкосновенность частной собственности есть краеугольный камень всего ее идеологического сооружения.
Свобода требует, писал Ф.Хайек, чтобы индивид имел возможность преследовать собственные цели. Поэтому в мирное время свободный человек не должен быть связан коллективными целями. Возможность же принимать индивидуальные решения существует благодаря четкому определению прав частной собственности, а также сфер, в которых индивид может распоряжаться своими средствами. Таким образом, мерой частной собственности индивиду устанавливается гарантированная область свободных действий.[325] Как писал К.Кавелин, как бы справедливо не распределялись блага между людьми, как бы не заботилось общество о дорогих ему лицах, все это не заменит частной собственности и права наследования, ибо именно в этих правовых институтах выражена свобода, без которой человек становится животным, а общество превращается в стадо баранов. В своей книге "Николаевская Россия" Маркиз де Кюстин писал о русских крепостных: это правда, что у них нет забот, но у них нет и собственности. То есть, у них нет привязанности, счастья, морального чувства, нет ничего, что компенсировало бы невыгоды их жизни, ибо лишь частная собственность делает человека существом общественным и создает семью.[326]
Как считал А.Швейцер, хотя индивиды и должны служить обществу, это еще не означает, что они обязаны приносить себя ему в жертву. Иначе говоря, люди не должны позволять обществу опекать себя так же, как скрипач не должен учиться у контрабасиста. Индивиду не следует доверять идеалам и убеждениям общества, всегда преисполненным глупости и лжи по вопросам гуманности. Общество для А.Швейцера - это ненадежная и слепая лошадь, и потому горе кучеру, если он заснет. Поэтому, как справедливо писал Л.Леви, люди могут быть свободны лишь при несвободных правительствах.[327] И поэтому же у М.Фридмана главным фактором свободы является отделение экономической власти от политической, позволяющее им быть противовесами друг для друга. Разрешая экономической мощи быть ограничителем политической власти, а не ее усилителем, как это обычно имеет место при социализме, капиталистический рынок устраняет из общества опасный источник политического принуждения. Логично, что в такой системе люди будут испытывать недостаток политической свободы лишь тогда, когда не смогут достигнуть своих целей в экономической практике.[328]
Кроме того, только собственник по-настоящему активен. По наблюдению В.фон Гумбольдта, человек предпочитает праздность принудительной работе. И только частная собственность позволяет ему оставаться деятельным. В итоге развитие собственности всегда сопровождается развитием свободы.[329] Тот же, кто ставит "телегу благосостояния" впереди "лошади свободы", рискует уничтожить одновременно и свободу, и благосостояние. Минимум цивилизации - это хлеб и Декларация прав человека, писал М.Рокар. Выше этой планки можно приводить аргументы, критиковать и улучшать. Ниже ее можно лишь вести борьбу. Фактически приведенные рассуждения описывают элементы технологии свободы, которая, по словам Морелли, только и делает пользование ею возможным.
Известно, что Ж.-Ж.Руссо главным фактором свободы считал равенство всех людей перед законом. Как он писал, если в любом политическом устройстве обнаружится хотя бы один индивид, не подчиненный закону, то все остальные, рано или поздно, неизбежно окажутся в его власти. В свою очередь, В.фон Гумбольдт высшую степень свободы связывал с высшей степенью образованности и одаренности индивидов, требованием "уменьшения потребности действовать в составе однородных, связанных масс".[330] Поскольку же свободу нельзя завоевать раз и навсегда, люди обязаны постоянно бороться за свободу. В этом смысле, как указывают некоторые источники, Д.фон Нейман был, возможно, наиболее выдающимся ученым ХХ в., сознательно разрабатывавшим оружие для защиты свободы.[331] Согласно обзору Дома Свободы (Freedom House), в 1997 г. лишь 81 из 167 суверенных государств мира являлись по-настоящему свободными,[332] что легко объясняет масштабы современной политической эмиграции. Как писал по этому поводу В.Гавел: "Я ничего не имею против тех, кто эмигрирует: что бы это были за активисты защиты прав человека, которые не позволяют людям иметь право, которое каждая ласточка имеет?"[333]
ТЕРПИМОСТЬ, ПЛЮРАЛИЗМ И СВОБОДА
Генетические истоки политического плюрализма связаны, по-видимому, с постоянным проникновением новых элементов в непрерывность политического процесса в том смысле, как об этом писал К Дойч.[334] Как известно, уже в средневековой Европе могли параллельно сосуществовать противоречащие друг другу и одновременно жизнеспособные кодексы морали в одном и том же сообществе. И хотя, как писал Ж.Ле Гофф, Европа в средние века была настоящей ареной борьбы единства и многообразия, сравнимой разве что лишь с борьбой добра и зла, добро в этом поединке по необходимости научилось проявлять терпимость.
С другой стороны, нарушение принципа единогласия очень долго считалось в политике настоящим скандалом. Например, канонист XIII в. Угуччио писал о неприсоединившихся к большинству как о "позорниках" ("tupis"), ибо для его времени "позором являются разногласия и разномыслие в управлении, в корпорации, в коллегии". От либеральных понятий обычно открещивались, руководствуясь казавшейся долгое время практичной концепцией "качественного большинства". Как писали теологи и декретисты XIII в., хотя человеческая природа и склонна к разногласиям, само по себе это качество производно от первородного греха. Лишь значительно позднее и постепенно люди начали ценить многообразие как характерный признак демократии. Примечательно, что даже политические утопии XIX в. не смогли в полной мере избавиться от присущего средневековым политическим представлениям стремления к единообразию. Впрочем, возможно именно поэтому все они оказались скучными.
Как считал В.фон Гумбольдт, в политическом смысле многообразие самоценно, ибо само по себе органическое развитие человека требует "многообразия ситуаций". Даже самый свободный и независимый человек, писал он, не сможет достичь должного развития в однообразных условиях.[335] Что же касается общей постановки проблемы политического и, шире, культурного многообразия, то, как принято считать, начало сосуществованию "самых несхожих идей" положил модерн. Позже установление авторитарных режимов нанесло сильный удар по политическому многообразию,[336] чему также способствовали попытки ряда стран опереться на государство в условиях экономических и социальных трудностей.[337] Поэтому в начале ХХ в. только в наиболее мощных демократиях многообразие было сохранено, спрятавшись под защиту конституционных гарантий. Вскоре, однако, постиндустриальная "третья волна" вновь потребовала практического усиления многообразия. Постепенно нации одна за другой стали терять свой внутренний консенсус. Повсюду стали нарождаться тысячи "спорящих группировок", мировая и региональная культура все более дестандартизировались. В итоге этих процессов "децентрализация стала актуальным политическим пунктом от Калифорнии до Киева".[338]
Как утверждал К.Поппер, современные западные демократии являются плюралистическими "по своему существу", ибо почти официальным в них стало убеждение, что монолитное состояние социума грозит гибелью свободе мысли и достоинству человека. Считая язык, мораль, закон и деньги основными инструментами цивилизации, Ф.Хайек опасался их разрушения из-за потери ими ранее обретенного качества многообразия. По его мнению, такая потеря всегда неизбежна, если государство захватывает данные инструменты в свою "безраздельную собственность".
Как доказывал П.Юркевич, люди находят себе законное удовлетворение в предметах и способах поведения, варьирующих между крайностями добродетели и порока, добра и зла, "земли и неба".[339] По убеждению П.Чаадаева, поскольку "некоторые народы и некоторые личности обладают такими знаниями, которых нет у других народов и у других личностей",[340] постольку этого достаточно, чтобы оправдать политическое многообразие. В свою очередь, как писала М.Мид, в современном мире только железные или бамбуковые занавесы способны еще как-то поддержать подобие единодушия. В целом же политики напрасно стараются возродить социальное единство и абсолютную лояльность, а последователи революционных или утопических культов - закрытые общества с желательным для них образом жизни.
Современный политический мир настолько накренился в сторону плюрализма, что старое отождествление личности с коллективом уступило в нем место "многообразию индивидуальных жизненных проектов".[341] Как полагал И.Лысяк-Рудницкий, наивная эпоха догматизма и монотеистических упорствований закончились еще тогда, когда Гегелю достало проницательности понять и заявить, что в мире идет борьба не добра со злом, а добра с добром. Впрочем, еще Аристотель писал, что истоки ложного и истинного коренятся не в вещах, а в человеческом разуме. Это подтвердил затем и Фома Аквинский, а в начале Нового времени об этом еще раз напомнил Р.Декарт. Для Ф.Ницше истина - это не более, чем разновидность заблуждения, без которого определенный род живых существ не может выжить. Как писал М.Хайдеггер, у Ф.Ницше истина стала не более чем способом мышления, который не может не искажать действительность. Поскольку в современном мире существует бесконечное множество ценностных систем, В.Гавел совершенно справедливо протестовал против любой стандартизации человеческого поведения, в том числе и "хорошего".
Политический плюрализм проявляется сегодня по-разному, что лишь еще раз подтверждает реальность данного принципа. Конфессионально единая Франция характеризуется партийным плюрализмом, а в США все обстоит как раз наоборот. Тем не менее, в этих странах наличие генетической связи между множественностью политических идей и религиозных убеждений очевидно. Как приверженец либерализма, Б.Рассел негативно оценивал усилившуюся после второй мировой войны централизацию западных обществ.[342] Впрочем, даже профессионально воспитанный в совершенно иных политических традициях М.Малютин критиковал неструктурированное общество времен перестройки в СССР.[343] С другой стороны, как подчеркивал М.Маринович, в посттоталитарных странах народ еще долго будет политически ориентироваться на некие абсолютные и "объективные" истины. Плюрализм идей и многовариантность общественных моделей в этой части политического мира все еще психологически дискомфортны.
Разумеется, принцип терпимости по своему содержанию весьма близко примыкает к принципу политического плюрализма. В 1941 г. Э.Фостер предсказал, что терпимость в послевоенном мире станет едва ли не категорическим императивом.[344] В самом деле, сегодня терпимость стала почти главной добродетелью демократического общества.[345] Уже Ф.Рузвельт понимал либерализм, как равную для всех людей возможность проявить свою сущность, что в условиях нетерпимости было бы невозможно. Рассказывая о предпосылках становления политической терпимости в США, Л.Харц приводит пример американского фермера, наставлявшего своего сына примерно в том духе, что тот должен ощущать себя не хуже и не лучше любого другого человека. Ведь, как писал Р.Дал, конкурентный капитализм предполагает не только индивидуальный эгоизм, но требует также терпимости и альтруизма.[346] Поскольку же без компромиссов не обойтись, постольку не обойтись и без признания правоты чужих аргументов.
По мнению Д.Рисмена, терпимость не порождает проблем, если существует достаточное пространство между терпимыми и теми, к кому обращена терпимость.[347] В этимологическом смысле терпимость противостоит ортодоксальности и неприятию компромиссов, стоивших человечеству миллионных жертв в гражданских войнах, подрывавших общечеловеческие понятия о добре и справедливости и игнорировавших политическую изменчивость мира.[348] И хотя теоретики либерализма обычно ограничивают применение принципа терпимости лишь к тем, кто сам терпим, сегодня для многих стало очевидным, что политическая терпимость каким-то образом генетически связана с проявлениями некой гениальной ортодоксии. Именно в этом смысле подлинными апостолами терпимости воспринимаются Э.Роттердамский, квакеры и Д.Локк.
По наблюдениям К.Ясперса, терпимость чаще всего свойственна культурно развитым индивидам, обладающим аристократическим складом ума. Примером подобной личности может служить Солон. Менее присуща терпимость среднему классу людей, которые весьма часто уверены, что именно они правы, а другие нет. Полностью же терпимость отсутствует у "насильнического типа людей", привыкших лишь "наносить удары".[349] Историческими примерами носителей терпимости Э.Фромм считает Н.Кузанского, М.Фичино, Э.Роттердамского и Т.Мора, а Э.Фостер добавляет к ним М.Монтеня, Д.Локка, Л.Дикинсон и Гете.[350]
Возможно, что современная популярность терпимости связана с постепенно пришедшим к людям пониманием того, что им не следует пренебрегать иррациональной частью своей личности, даже если многие из них и отрицают ее существование.[351] Не исключено также, что терпимость объясняется реакцией человека на его собственный бунтарский дух, весьма часто сопутствовавший прогрессу. Уже у Ф.Ницше смиренный, прилежный, благожелательный и умеренный человек есть не герой, а идеальный "раб будущего". Таким образом, существование политической терпимости сегодня можно признать общим требованием эволюции индивидуальных жизненных форм. Поскольку же передовые идеи выдвигаются обычно еретиками, следует также согласиться, что терпимые люди обоснованно получают более глубокое удовлетворение своих жизненных потребностей, чем остальные.[352]
И.Кант писал, что естественное неравенство людей, множественность человеческих характеров и мнений выступают важнейшими условиями морального и материального прогресса. Подавление же инакомыслия неэффективно и провоцирует социальные конфликты вкупе с альтернативными способами поведения. Именно поэтому политика терпимости пополам с недоверием является, возможно, лучшим способом выхода из ситуации. Еще в 1682 г. П.Бейль утверждал, что неверие лучше суеверия, требуя на этом основании от государства терпимости даже для крайних еретиков. В психологическом же смысле не исключено, что терпимость стала одним из основных последствий развития идеи человека в оппозицию к "групповому нарциссизму". Как писал В.Розанов, "индивидуум начался там, где вдруг сказано закону природы: "стоп! не пускаю сюда!" Тот, кто его не пустил, - и был первым "духом", не- "природою", не- "механикою". Иначе говоря, "лицо" в мире появилось там, где впервые произошло "нарушение закона". Нарушение его как единообразия и постоянства, как нормы и "обыкновенного" как "естественного" и "всеобще ожидаемого".[353]
Рождение практической политической терпимости хорошо иллюстрируется историей освоения Америки, начатой, как известно, пуританами (Новая Англия), продолженной католиками (Мэриленд), а затем сторонниками Елизаветы (Виргиния), Стюартов (Каролина), Ганноверской династии (Джорджия), баптистами (Массачусетс), квакерами (Пенсильвания) и другими гонимыми в Англии группами населения. Одновременно терпимость явилась также условием и следствием того обстоятельства, что в Новое время принцип многообразия стал для всех почти очевидным фактором прогресса. Слишком многие достижения цивилизации оказались прямыми следствиями непопулярных убеждений индивидов либо автономных институций. И дело не только в том, что для здоровой личности естественно было "не соглашаться". Как писал Л.Гумилев, людям вообще более свойственно бороться "против", чем "за". Недаром у В.Розанова всякий русский, начиная с возраста 16 лет, примыкает к партии ниспровержения государственного строя.
Сквозь всю историю человечества тянется нить борьбы личности с обществом, одного со всеми, говорил Д.Мережковский. Однако никогда эта борьба не была столь решительной, как борьба "идеальной правды анархизма" с "реальной правдой социализма".[354] У Д.Оруэлла герой романа "1984" У.Смит раздавлен партией за "ничтожные открытия", которые на самом деле были опасны не как открытия, а как "отклонение от эталона". Именно поэтому Г.Маркузе опасался, что современные технологии чреваты "рационализацией несвободы человека", ограничением его автономности и права определять свою жизнь самому.[355] Как писал Х.-Г.Гадамер, системе коммуникации человека в будущем может не хватать элементов спонтанности и диалога. По его предположениям, пессимистические настроения молодежи объясняются прежде всего тем, что в стиле ее воспитания отсутствовала непосредственность.[356]
Судя по многочисленным признакам, балансирование на грани свободы и несвободы, политической терпимости (открытости) и ксенофобии будет судьбой еще не одного поколения. Кроме того, как заметил Б.Данем, на протяжении всей политической истории еретики пользовались обычно большим сочувствием, но очень редко - свободой. Собственно говоря, еще Аристотель советовал "обрывать поднимающиеся над другими колосья" (устранять выдающихся людей).[357] Поскольку же достигнутый нами уровень политической справедливости и сегодня не позволяет реально уравнять людей перед лицом власти (Б.Рассел), постольку наши успехи в данной области все еще ограничены и заключаются, главным образом, лишь в признании, что "доброта и терпимость стоят всех вероучений в мире". Вслед за Ш.Фурье мы могли бы пока что пытаться различать классы, не обособляя их.
По мнению Л.Богораз и А.Даниэля, в советском обществе политическая терпимость возникла из многообразной диссидентской практики, начиная от слетов клуба самодеятельной песни (КСП) и заканчивая социально отклоняющимися типами поведения.[358] Иначе говоря, терпимость в СССР вырабатывалась не только в сознательной борьбе с тоталитаризмом, но и являлась также результатом постепенного привыкания общества к нонконформизму и отклоняющемуся (девиантному) поведению в целом. Впрочем, у всех этих процессов были и более широкие культурные предпосылки.
Характерно, в частности, что на рубеже ХIХ-ХХ вв. в мировой поэзии и прозе появляются не только стоящие на стороне существующего порядка религиозные и нравственные герои духа, но также и такие мятежные персонажи, как художник, проститутка, великий преступник или изгнанник, воин, поэт-бунтарь, дьявол или просто дурак. Иными словами, популярность в искусстве во все большей степени приобретают те, кто рискнул зарабатывать на жизнь не общепринятым способом.[359] Стереотипы вызывающего и шокирующего поведения в это время проникают в театр, где "последние живые люди приходят в неистовство" (А.Арто) и где сын убивает отца, воздержанный совокупляется со своими близкими, сладострастный обращается в невинного, скупец швыряет золото из окон, герой поджигает город, а щеголь гуляет в местах, где складывают трупы. При этом "ни уверенность в безнаказанности, ни сознание близкой смерти недостаточны, чтобы объяснить столь абсурдно бесполезные действия со стороны людей, которые ведь вовсе не верили в то, что со смертью все кончается".[360] Постепенно становится все более ясно, что искусство ХХ в. отразило не только общее изменение социальных оценок поведения аномического (anomic) типа личности, но также и поведенческого рисунка обычного индивида, просто решившего вдруг стать свободным в своем выборе.[361]
ГАРАНТИРОВАНИЕ СВОБОДЫ
Нужно признать, что современное правовое гарантирование свободы в конституциях посттоталитарных стран весьма многообразно. Главными видами конституционных гарантий свободы являются: провозглашение свободы как цели политической деятельности государства; объявление свободы высшей социальной ценностью; закрепление свободы в качестве крупномасштабного правового понятия (категории); фиксация многочисленных дробных конституционных прав-свобод; утверждение принципа свободы и закрепление политико-правовых сдержек и противовесов, обеспечивающих свободу и др.
Следует также заметить, что гарантирование свободы современными посттоталитарными конституциями соответствует, в основных чертах, идее Д.Ролза о том, что общество не является политической ассоциацией. Иными словами, современные конституции часто трактуют общество как открытую для всех уникальную политическую институцию, создающую максимально широкие возможности для реализации не коллективных, а индивидуальных стратегий.[362]
Закрепление в современных конституциях свободы в качестве цели государства и общества фактически также соответствует требованию Д.Ролза о том, что предметом конституционного гарантирования могут быть лишь ценности, являющиеся справедливыми для всех без исключения граждан, независимо от их роли и места в обществе. Такие ценности имеют характер начальных (стартовых) условий всей социальной динамики и потому выступают как правила равной для всех политической процедуры. При этом закономерно, что удовлетворить начальным условиям любой политической активности может лишь свобода, то есть наиболее важное и универсальное предварительное требование человеческого поведения, ключевой фактор, предваряющий почти всякую человеческую деятельность.
Что же касается конкретных правовых примеров защиты и гарантирования свободы, то они варьируются в весьма широких пределах. Например, в Преамбуле к Конституции США 1787 г. сказано: "Мы, народ Соединенных Штатов, в целях... обеспечения нам и нашему потомству благ свободы, учреждаем и вводим эту Конституцию". Эта же цель закреплена в ст. 2 Конституции Швейцарской Конфедерации 1874 г. Провозглашение свободы как цели нации закреплено в Преамбуле Конституции Испании 1978 г.[363] В Преамбуле Конституции Японии 1947 г. "благословение свободы для всей страны" названо основополагающим стремлением японского народа. В Преамбуле Конституции Словакии 1992 г. стремление "гарантировать свободную жизнь" утверждается от имени народа. Преамбула Конституции Македонии 1991 г. гласит, что Собрание Республики Македония принимает настоящую Конституцию, чтобы гарантировать права и свободы человека и гражданина. В Преамбуле Конституции Болгарии 1991 г. говорится, что решимость народных представителей создать демократическое, правовое и социальное государство основывается на их преданности свободе. Цель свободы отражена в Конституции Франции 1946 г., в Преамбуле которой записано, что Французская Республика никогда не употребит своих сил против свободы народа. Об утверждении свободы в качестве фундамента общественного строя и важнейшего права человека говорит Преамбула Конституции Польши 1997 г.[364]
Следует признать, что конституционная трактовка свободы как высшей социальной ценности является особенно распространенной в посттоталитарных конституциях. В частности, в ст. 3 Конституции Хорватии 1990 г. сказано, что свобода является одной из высших ценностей конституционного строя Республики (первое место в перечне). В разделе "Третье" Конституции Казахстана 1993 г. записано, что Республика Казахстан признает высшей ценностью свободу человека (в перечне "свобода" следует сразу же после "жизни"). В ст. 2 Конституции России 1993 г. свободы человека также определены как "высшая ценность".
Основополагающими ценностями конституционного строя Республики Македония признаются основные права и свободы человека и гражданина (ч. 1 ст. 8 Конституции Македонии 1991 г.). Свобода названа второй после жизни высшей ценностью в ч. 1 ст. 13 Конституции Узбекистана 1992 г. В ст. 13 Конституции Японии 1947 г. право людей на свободу названо "высшим предметом заботы в области законодательства и других государственных дел". В ст. 1 Конституции Испании 1978 г. свобода указана первой в перечне высших ценностей Испанского государства. В ст. 3 Конституции Чехии 1992 г. записано, что "Хартия основных прав и свобод" является частью конституционного порядка Чешской Республики.
В ч. 1 ст. 17 Конституции Испании 1978 г. признается право человека на свободу, а в ч. 1 ст. 2 Конституции ФРГ 1949 г. говорится, что каждый имеет право на свободное развитие личности. В ст. 16 Конституции Кыргызстана 1993 г. признается право каждого на личную свободу, свободное развитие личности, свободу вероисповедания, свободное выражение и распространение мыслей, свободу передвижения, частной жизни, экономическую свободу, свободу труда и др. В ч. 1 ст. 55 Конституции Венгрии 1990 г. записано, что каждый имеет право на свободу и личную безопасность. Право на свободу и личную неприкосновенность записано в ч. 1 ст. 24 Конституции Узбекистана 1991 г. Аналогичная норма закреплена в ч. 1 ст. 30 Конституции Болгарии 1991 г. Право на свободу и личную неприкосновенность записано также в ч. 1 ст. 22 Конституции России 1993 г., а право на свободную самореализацию предусмотрено в ч. 1 ст. 19 Конституции Эстонии 1992 г. Естественное право человека "свободно жить и творить на земле своих предков" предусмотрено в Преамбуле Конституции Литвы 1992 г.
Принцип свободы науки, искусства и обучения зафиксирован в ч. 1 ст. 38 Конституции Эстонии 1992 г. В ч. 1 ст. 41 этой же Конституции он дополнен правом сохранять верность своим мнениям и убеждениям. В ч. 4 ст. 15 Конституции Кыргызстана 1993 г. закреплен принцип, провозглашающий права и свободы человека действующими и определяющими смысл, содержание и применение законов. Принцип, позволяющий каждому делать все, что не запрещено законом, записан в ч. 4 ст. 2 Конституции Чехии 1992 г. Все, что не запрещено Конституцией или законом, является дозволенным в Республике Македония (ч. 2 ст. 8 Конституции Македонии 1991 г.). Принцип свободной хозяйственной инициативы предусмотрен ч. 1 ст. 19 Конституции Болгарии 1991 г. В ч. 1 ст. 13 Конституции Италии 1947 г. записан принцип нерушимости свободы личности, который дополнен здесь принципом свободы частной хозяйственной инициативы.
Что же касается непосредственных конституционных гарантий свободы, то в посттоталитарных конституциях они также достаточно разнообразны и многочисленны. Например, в ст. 22 Конституции Хорватии 1990 г. говорится, что свобода личности неприкосновенна, а в ч. 1 ст. 12 Конституции Македонии 1991 г. - что право человека на свободу считается неотъемлемым. Конституция Кыргызстана 1993 г. в ч. 1 ст. 17 запрещает издавать законы, умаляющие или отменяющие свободы человека, а ч. 2 ст. 34 Конституции Узбекистана 1991 г. запрещает ущемлять свободу лиц, входящих в оппозиционное меньшинство в представительных органах власти, партиях, общественных объединениях и массовых движениях. Конституция Словакии 1992 г. в ч. 1 ст. 12 определяет основные свободы неотъемлемыми, неотчуждаемыми, непреходящими и нерушимыми. В Конституции России 1993 г. в ст. 55 запрещается издавать законы, отменяющие или умаляющие свободы человека и гражданина, а в ч. 2 ст. 17 этой же Конституции основные свободы человека определены неотчуждаемыми и принадлежащими всем по рождению. В Преамбуле Конституции Туркменистана 1992 г. говорится о том, что народ Туркменистана гарантирует свободу каждому из граждан. В Конституции Кыргызстана 1993 г. в ч. 2 ст. 15 основные свободы человека признаются в качестве абсолютных, неотчуждаемых и защищаемых законами и судом от посягательств кого бы то ни было. В ст. 37 этого же Основного Закона записано, что социальная деятельность государства не должна приводить к государственному попечительству экономической свободы и активности, позволяя гражданам самим добиваться экономического благополучия.
В ч. 1 ст.20 Конституции Литвы 1992 г. свобода человека определяется неприкосновенной. В ч. 2 ст. 2 Конституции ФРГ 1949 г. утверждается, что свобода личности ненарушима, а в ст. 97 Конституции Японии 1947 г. закрепляется положение о том, что все гарантируемые народу основные права человека являются результатом борьбы людей за свободу. В ст. 66 Конституции Франции 1958 г. сказано, что никто не может быть произвольно лишен свободы. Кроме того, как гласит французский Основной Закон, всякий человек, преследуемый за деятельность в пользу свободы, имеет право убежища на территории Республики. Характерно, что и в ч. 2 ст. 5 Конституции Греции 1975 г. запрещается выдача иностранца, преследуемого за деятельность в пользу свободы. В ст. 41 Конституции Италии 1947 г. говорится о возможности наложения запрета на развитие частной хозяйственной инициативы, которая причиняет ущерб свободе или достоинству человека.
Вместе с тем, следует признать, что перечисленные гарантии свободы весьма отстают от уровня обеспечения свободы в Конституции США, в которой, как известно, Конгрессу запрещено издание законов, ограничивающих свободу слова, печати или право народа мирно собираться и обращаться к Правительству с петициями о прекращении злоупотреблений. Кроме того, как предусмотрено Конституцией США, поскольку для безопасности свободного государства (то есть, исходя из политических соображений) необходима хорошо организованная милиция, право народа хранить и носить оружие не подлежит ограничениям.[365]
В качестве допустимых сдержек и противовесов свободы в конституциях посттоталитарных стран используются, главным образом, такие политико-правовые ценности, как: защита основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечение обороны страны и безопасности государства ( ст. 55 Конституции России 1993 г.); основания, указанные в самой конституции (ст. 32 Конституции Казахстана 1993 г.); законные интересы, права и свободы других лиц, государства и общества (ст. 20 Конституции Узбекистана 1992 г.) и др.
Конституционное гарантирование свободы в Украине характерно прежде всего тем, что Конституция Украины 1996 г. была принята, как это следует из ее Преамбулы, с целью обеспечения прав и свобод человека. К сожалению, несмотря на рекомендацию Международного юридического форума в Новой Гуте (11-13 января 1996 г.), который был специально посвящен окончательной доработке украинского конституционного проекта, свобода в качестве одной из высших социальных ценностей не была включена в окончательную редакцию ст. 3 Конституции Украины 1996 г. Правда, в ч. 2 ст. 3 Конституции Украины 1996 г. признается, что права и свободы, а также их гарантии определяют смысл и направленность деятельности государства. Однако редакция данной конституционной нормы, как представляется, сохраняет патерналистский оттенок.
Вместе с тем, в ч. 3 ст. 8 Конституции Украины 1996 г. говорится, что обращение в суд для защиты конституционных прав и свобод непосредственно на основе Конституции гарантируется, а в ст. 55 этой же Конституции подчеркивается, что свободы человека и гражданина защищаются судом. В ч. 3 ст. 55 Конституции Украины 1996 г. каждому гарантируется право обращения за защитой своих прав и свобод к Уполномоченному Верховного Совета Украины по правам человека. Эта же статья гарантирует право каждого обращаться за защитой своих свобод в международные судебные организации или органы международных организаций, членом или участником которых является Украина. Кроме того, защита каждым своих свобод не запрещенным законом способом разрешена на основе ч. 5 ст. 55 Конституции Украины 1996 г. В ст. 22 Конституции Украины признается, что свободы человека и гражданина не являются исчерпывающими, и что они не могут быть отменены или сужены в случае принятия новых или изменении уже действующих в Украине законов.
Что же касается вопроса о конституционных ограничениях свободы (прав и свобод) в Конституции Украины 1996 г., то их перечень весьма значителен. Например, в соответствии с требованиями ст. 15 Конституции Украины 1996 г. свобода политической деятельности может быть ограничена в Украине не только Конституцией, но и обычным законом. При этом оговорено, что право человека на свободное развитие индивидуальности не может нарушать прав и свобод других людей. Хотя право каждого человека на свободу признается в ч. 1 ст. 29 Конституции Украины 1996 г., в ст. 30-64 этой же Конституции данному "праву на свободу" сопутствует перечень более конкретных прав и свобод человека и гражданина, которые подлежат весьма значительным ограничениям. И хотя в ст. 64 Конституции Украины 1996 г. утверждается, что права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены иначе, как в случаях прямо предусмотренных Конституцией, именно эти случаи, как показывает анализ ст. 15 Конституции Украины 1996 г., могут быть экстраполированы за пределы прямого правового воздействия конституционных норм.
Кроме того, на основании ч. 2 ст. 64 Конституции Украины 1996 г. конституционные права и свободы в Украине могут быть ограничены в условиях (и на срок) военного и чрезвычайного положения. К числу конституционных прав и свобод, которые могут быть ограничены подобным образом принадлежат также неприкосновенность жилища, тайна переписки, свобода передвижения, свобода собирания и распространения информации, свобода мировоззрения и вероисповедания, свобода объединения в партии и общественные организации, свобода собраний, право на участие в управлении государственными делами, право на участие в референдуме, право владения, пользования и распоряжения собственностью, свобода предпринимательской деятельности, право на труд и забастовку, право на отдых, социальную защиту и охрану здоровья. Кроме того, в условиях военного и чрезвычайного положения могут быть ограничены право на образование и свобода литературного, художественного и технического творчества. Иными словами, в условиях чрезвычайного или военного положения вся жизнь гражданского общества в Украине может быть фактически парализована государством.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ГОСУДАРСТВО
Интеллектуальная политическая активность, как правило, предшествует иным видам политической активности, в чем и проявляется ее особенное свойство. Это активность первого порядка по отношению к практическим действиям - активности второго порядка. В этом качестве теоретическая активность выступает квинтэссенцией политического. Недаром Б.Спиноза писал, что человек деятелен, поскольку познает, а В.Вернадский говорил о мощи свободной мысли и личности, царство которых впереди. Еще более определенно выразился Д.Дьюи: "Как это ни удивительно может звучать, вопрос, сформулированный И.Кантом, означает, что возможности [предоставляемые] знанием, являются фундаментальной политической проблемой современности".[366] По мнению М.Новака, идеи и символы нашего времени стали могущественнее реальности, ведь они и есть новая реальность.[367] Именно поэтому морально-культурные аспекты выдвигаются на главное место в развитии современных политических систем. Для О.Тоффлера в цивилизации "третьей волны" важнейшими факторами становятся информация и воображение. В сущности, это закономерно, ибо каждое столетие какая-либо грандиозная идея адаптируется в интеллектуальные потребности общества, проникая в самые отдаленные пространства нашей жизни.[368] Правильно организованные идеи всегда являлись решающим оружием политики. Недаром кладбища истории, писал В.Эбенстайн, заполнены "реалистами" вроде Наполеона, Вильгельма II, Гитлера или Муссолини.[369]
Цивилизацию продвигают вперед энергии народов, высвобождаемые посредством совершенно новых институтов и конституций.[370] Собственно говоря, за этим стоит нечто даже более мощное, чем энергия, а именно, коллективное воображение.[371] Связывая политику и теоретическую мысль, Г.Моска писал, что каждая страна и эпоха обладают набором идей и верований, определяющим образом воздействующих на политический механизм. Для Ж.-Ф.Ревеля нищета народов есть следствие политики, основанной на плохих идеях.[372] У Д.Писарева политически господствуют люди, обладающие наибольшей суммой развитых умственных сил. Не случайно еще в 1826 г. Д.Каннинг предсказал, что грядущая европейская война станет войной мировоззрений.[373] Для Р.Рейгана решающим фактором современной войны являлось соревнование умов и идей, духовных ценностей, убеждений и идеалов. Впрочем, еще Ф.Ницше писал о борьбе, которая будет вестись от имени философских принципов.[374]
Для П.Вайнцвайга идеи - это основной источник человеческой энергии,[375] а для Ф.Хайека сохранение численности населения прямо связано с технологией добывания и передачи информации.[376] Как писал Ю.Каныгин, успехи и поражения наций связаны со складом мышления их авангардных групп,[377] ведь потенциал современного общества определяется не объемом накопленных в нем знаний, а их энтропией, разбросом, возможностями аккумуляции.[378] Сегодня многие согласны, что место любой страны и народа в ХХI в. будет определяться их интеллектуальной мощью. Диктовать условия будут интеллектуально сильные страны.[379] По мнению Б.Малиновского, борьбу за будущее выиграют общества, в которых образование будет более свободным и универсальным, а цели будут избираться спонтанно. Системы же, которые будут продолжать производить индивидов в качестве средств достижения запрограммированного результата, проиграют.[380]
З.Бжезинский полагает, что общество будущего будет перефокусировано на значимость философии и духовных аспектов жизни. Поскольку информация - это власть, режим информации становится политико-правовой проблемой. Должны ли банки данных контролироваться правительством, или им лучше развиваться свободно, есть важнейший для общества вопрос.[381] Примечательно, что даже у Т.Гоббса суверен не должен вмешиваться во мнения и их выражение, если только последние не угрожают миру.[382] Уже сегодня увеличение скорости передачи информации есть политический вопрос,[383] а базы данных рассматриваются в качестве сердцевины управленческого процесса.[384]
Гении рождаются в провинции и умирают в Париже, гласит французская поговорка. Интеллектуальное могущество спонтанно рассеяно в географической, временной и политической среде. Поэтому ни партия у власти, ни отдаленность провинции, ни несчастливые времена не должны препятствовать интеллектуальной активности общества, действительно озабоченного своим будущим. Как считает А.Зиновьев, изоляция одних регионов мира ведет к усилению ксенофобии в других, сокращая тем самым потенциальную способность каждого из регионов противостоять злу.[385] На примере Японии К.Кирквуд показал, насколько трудно предугадать, в какой момент общество может воспользоваться плодами информационного обмена. Ведь ни правительственные стратегии просвещения народа, ни средневековый культ знаний, поддерживаемый наиболее просвещенными монархами, не приводили к ощутимым результатам в консервативном и закрытом обществе. Европа вышла из мрака средневековья не по указаниям императоров, а благодаря пробудившемуся общественному сознанию. Не случайно по данным ЮНЕСКО политический выбор и свобода информации связаны неразрывно, так что движение информации стало отчетливо выраженной политической потребностью.[386] Логично, что оптимальное протекание всех этих процессов требует конституционных гарантий.
Свобода интеллектуальной активности, писал З.Бжезинский, существенна потому, что демократия не способна ответить на вопрос о том, что же на самом деле является хорошей жизнью.[387] Демократия обладает селективным, а не креативным, творческим даром. Ценности, мотивирующие поведение людей, генерирует культура и философия, и именно поэтому последние должны быть максимально свободны. Т.Джефферсон писал о свободе информации, как о политическом требовании, так как был, вслед за К.-А.Гельвецием, убежден, что свободный и мыслящий народ повелевает народами, которые не мыслят. Именно на основе данного убеждения возник затем конституционный императив, запрещающий правительству судить чьи-либо взгляды.
У А.Токвиля демократическое правление хоть и базируется на простых принципах, однако в качестве своей основы предполагает высокую культуру и просвещенность общества.[388] И у К.Юнга политическое благополучие определяется интеллектуальным здоровьем. Ведь в современном мире слишком многое зависит от правильного функционирующего сознания. Если люди потеряют голову, будет взорвана водородная бомба.[389] У А.Шлезингера интеллектуальная работа стимулирует идею равноправия и диверсификацию общества. Уже начиная с римского форума и новгородского вече демократия предполагала определенный способ закрепления, хранения и обмена информации. Информационной свободе сопротивлялись все диктаторские режимы, но правда, будучи обнаруженной, обычно их свергала.[390]
З.Бжезинский пишет, что именно резко возросшая в XX в. интеллектуальная активность Латинской Америки, Юго-Восточной Европы, Египта и Индии позволила им стать восприимчивыми к критике. Это важно, ибо интеллектуально активным обществам достаточно порой лишь толчка, чтобы устремиться вперед по пути перемен. В Португалии таким толчком стала книга, написанная генералом, в Иране - голос Хомейни, записанный на магнитную ленту. В Польше 80-х папа римский мог вызвать любые события по своему выбору.[391] Как писал К.Поппер, мысли и идеи являются не только орудиями, но и видом политических действий, а интеллектуальная честность - фундаментом всего, чем мы дорожим. Ценность "общих идей" А.Токвиль усматривал в том, что эти идеи позволяют оценить ситуацию, в которой действует множество субъектов. О политическом мировоззрении, устанавливающем порядок всех вещей, писал Н.Шлемкевич.[392]
Обычно интеллект определяют как способность системы (человека, ЭВМ, общества) превращать данные в знания, извлекать смысл из наборов данных, декодировать их. При этом память и логический вывод являются определяющими для уровня интеллекта.[393] В морально-политическом же смысле интеллектуальная активность выступает как деятельность общественного организма в поисках справедливости. А это требует, чтобы ограничения интеллектуальных усилий были отброшены, а проблемы решались на основе всех доступных общественному сознанию фактов.[394]
В структурном смысле интеллектуальная активность общества является коллективным умственным действием, синтеллектикой. Ее главными качествами являются способность воспринимать, накапливать и хранить знания, вырабатывать идеи и затем использовать их.[395] Интеллект выступает здесь инструментом преобразований тонкой материи сознания. В политическом же смысле интеллектуальная активность является "вибрирующей структурой" (Ю.Каныгин) социального организма, которую представляют институты общественного мнения (масс-медиа), религиозные конфессии, политические течения а также такие слои населения, как студенчество, ученые и писатели.[396] Впрочем, еще В.фон Гумбольдт говорил, что человеческая индивидуальность есть идея, воплощенная в явлении. Иными словами, идея приняла форму индивида лишь для того, чтобы открыть себя. Недаром у П.-А.Гольбаха мысль - это деятельность в человеке.
Поскольку общий смысл интеллектуальной активности заключается в освоении обществом окружающей действительности, выработке стратегии и тактики реагирования на бесчисленное множество ситуаций, в интеллектуальную политическую активность включаются преимущественно, те формы мыслительной деятельности, которые стремятся к коммуникации, дискурсу. В большинстве случаев эта деятельность проявляет себя на научном, религиозном, общекультурном и бытовом уровне. Благодаря ей кооперируются усилия в образовании, науке и искусстве. Она может быть ориентирована как на конкретный результат, так и на самоценное вербальное или визуальное выражение. Чаще же всего она проявляет себя в поиске новых или прежде утраченных смыслов, выработке и выдвижении символов, разработке концепций, доктрин, социальных парадигм. К ней относится почти всякое организационное обеспечение прогресса.
Э.Фромм считал интеллект человека производным от независимости, смелости и жизненности.[397] Поэтому юридически гарантировать интеллектуальную активность должны нешаблонные правовые средства. В наборе конституционных гарантий им соответствуют законодательно очерченные пространства свободы, зоны, свободные от государственного регулирования.
То обстоятельство, что интеллектуальная активность выступает предпосылкой любых перемен, как раз и придает ей политический характер. В этом качестве она является действием эфиризованного типа, которое, по мнению А.Тойнби, более походит на Божье деяние, чем какое-либо иное из человеческих действий. И хотя Ж.Ламетри подчеркивал в интеллектуальной активности лишь "высказывание мнений",[398] у Аристотеля такая активность является высшей формой praxis'a, созерцанием в поисках истины, которое он иногда также называл умственной интуицией, и по отношению к которой обсуждение выступает уже как деятельность.
Теоретическая активность является фактором самоутверждения у Л.Фейербаха, который по этому поводу писал: "Философские системы - необходимые, неизбежные точки зрения разума, такие точки зрения, в лице которых божественная истина однажды созерцает самое себя с явным удовлетворением..."[399] У В.Гейзенберга этот фактор приобретает политическую окраску, ибо однажды избранную мировоззренческую позицию многие люди воспринимают обычно как "основу жизни", которую не под силу поколебать ни опыту, ни новому знанию. Подобная иррациональная вера является крупным политическим фактором истории, хотя первоначально многим и казалось, что веру легко потеснит рациональный анализ.[400]
В.Вернадский воспринимал теоретическую активность как совокупность человеческой мысли, к которой он относил религиозное мировоззрение, искусство, этику, социальную жизнь и философскую мысль. Для П.Сорокина абстракция есть imum fundamentum социального порядка, на котором держится продолжительность, сила и могущество обществ. У М.Дюверже сходную роль играют политические мифы, основанные на вере, традициях и социальном климате.[401] Такую же функцию выполняет требующее чуткого отношения к жизни и независимости мысли "служение идеалам".
Д.Шумпетер считал интеллектуалов людьми, которые обладают властью слова, не неся при этом ответственности за практические дела.[402] Иногда же интеллектуалы посвящают себя социальной критике, то есть, освоению мира через отрицание, которое Э.Шеварднадзе считает разновидностью политики.[403] Впрочем, даже в сказках и трагедиях, в которых происходит трасцендирование целей мифологического свойства, ради которых люди готовы приносить жертвы, воплощается отчетливо выраженный политический смысл.[404]
Что же касается самой технологии интеллектуальных процессов как распространения "количества непредсказуемого, содержащегося в сообщении" (А.Моль),[405] то между этим действием и политической властью существует органическое противоречие, отражающее более общее противоречие "жизни и свободы" (Ф.Хайек), противостояние гражданского общества и государства. Как известно, Верховный Суд США отнес информационную открытость под защиту I Поправки к Конституции США, запрещающей какое-либо (в том числе законодательное) ограничение свободы слова, совести и петиций, тем самым выведя процессы интеллектуального обмена в свободное от правовых ограничений пространство. В политико-информационном смысле это означало защиту ремы - структурной части сообщения, аккумулирующей в себе новизну, то есть ядро информации.[406] Лишь новое в сообщении заставляет людей жаждать свободного доступа к информации, только в этом заключается смысл свободы их убеждений.
Как считает Н.Амосов, в основе теоретической активности человека лежит алгоритм разума и биологические потребности. Разум выдвигает и тренирует гипотезы, тем самым делая их источником активности человека вместе с центром биологических потребностей. Именно по этой схеме была реализована историческая гипотеза о Боге и идеализм, гипотеза о материальной силе и материализм, а также другие идеи, касающиеся проблем справедливости, распределения собственности и власти.[407] Именно так чаще всего проявлял себя процесс эволюционной цефализации, скачкообразное усовершенствование-рост центральной нервной системы человека, позволившие биосфере перейти в ноосферу.[408] При этом не имело существенного значения то обстоятельство, что время от времени материалисты покидали материализм, а психологи-детерминисты склонялись к индетерминизму в физике.[409] Реальность всегда удивляет, а мышление всегда создает, на чем и основана открытая диалоговая система, в рамках которой люди, находя окружающую действительность неудовлетворительной, фантазируют.[410] Замки политических фантазий не случайно кажутся людям более привлекательными, чем материальные блага,[411] ведь политический порядок есть царство фикций, в котором, как говорил П.Валери, свирепствует и блистает критика идеалов.
По-видимому, способность человека вырабатывать мировоззрение следует считать глубоко политической. Недаром А.Швейцер отождествлял эту способность с высшим чувством ориентирования, а Д.Донцов называл ее "стеной фанатизма", которую не разрушить никакими насмешками и провокациями.[412] Способность жертвовать собой ради идеалов давно считалась органически присущей индоевропейской расе,[413] цивилизация которой всегда стремилась к прекрасному сильнее, чем к полезному. Святыни появились раньше, чем железные дороги и электрические лампы.[414] Поскольку же рафинированная теоретическая мысль развивается безотносительно к соображениям полезности, она не может и не должна зависеть от государственной поддержки.
Как известно, переход от материальных потребностей к интеллектуальным и нравственным П.Чаадаев считал заслугой христианства, возбудившего в массах "великие прения". У Б.Данема отношение людей к Библии, как источнику интеллектуального вдохновения, имманентно природе личности, которая у Л.Эрхарда всегда стремится вырваться из материалистического мировоззрения.[415] Ведь люди порой жертвуют самым дорогим, чтобы сберечь красоту.[416] Критикуя материализм, К.Поппер упрекал К.Маркса в недооценке преимуществ свободы перед необходимостью.[417] В свою очередь, Ф.Фукуяма считал утилитаризм и ослабление веры в силу идей одним из наиболее унылых и разочаровывающих последствий марксизма.[418] Между тем сознание - причина, а не следствие человеческой активности, а реальной подоплекой событий является все-таки идеология.[419]
Для Х.-Г.Гадамера социальная практика немыслима без функции риторики,[420] а у Г.Спенсера социальные действия вытекают из эмоций, руководимых идеями наших предков и современников.[421] У Ю.Хабермаса основания прогресса коренятся не в естествознании и технике, а в "производительной силе коммуникации", а у Л.фон Мизеса думающие люди отделены пропастью от тех, кто не умеет автономно мыслить.[422] Г.Моска считал массовые иллюзии подлинными творцами исторических событий, напоминая нам при этом, что именно безумцы увлекали здравомыслящих в свою компанию, а не наоборот.[423] Ранний К.Маркс в письме к А.Руге справедливо сетовал на Л.Фейербаха, что тот много уповает на природу и мало - на политику.[424] Ведь как писал Д.Дьюи: "Говорят Всевышний, Повелитель, Опыт, Опыт; но в действительности работает идея, внедренная в опыт, практику, а не приобретаемая из них".[425]
"Сама природа разума, - говорил И.Кант, - побуждает его выйти за пределы своего эмпирического применения, в своем чистом применении отважиться дойти до самых крайних пределов всякого познания посредством одних лишь идей и обрести покой, лишь замкнув круг в некотором самостоятельно существующем систематическом целом".[426] Интересно, что у Э.Фромма вера и безверие разделены пропастью. Эпохи веры кажутся ему блестящими, возвышенными и плодотворными. Безверие же всегда проходит бесследно. Дух дерева существует, писал Д.Сорос, однако при условии, что мы в это верим.
Нетрудно понять, писал И.Лысяк-Рудницкий, что идеология крайне необходима политической власти для самооправдания в неком духовном принципе.[427] Мифы живучи, ибо лишь с ними выживают правительства, а народы приводятся к повиновению, пусть даже при этом и совершается известная рационализация иррационального.
Как известно, в 1796 г. Д.де Трасси впервые применил термин "идеология". С тех пор этот термин стали использовать для обозначения морали, религии, метафизики и др. В частности, К.Маркс писал об "идеологических формах",[428] а Б.Рассел - о том, что всякому политику соответствует какой-нибудь идеолог. Например, О.Кромвелю - Т.Гоббс, Наполеону - Ж.-Ж.Руссо, А.Гитлеру - Гегель. Вдохновленных идеологией политиков К.фон Штайн называл "метаполитиками".[429]
Сен-Симон писал, что идеологии служат цели интеграции человечества, а Д.Истон видел в них образец целей для будущих действий политической власти.[430] Р.Джонстон называл идеологии социальными парадигмами, обладающими собственным пониманием значения вещей и способов выявления этого значения,[431] а М.Янков определял "идеологическую парадигму" как совокупность теорий, концепций, идей, моделей, образцов, критериев, ценностей и норм, определяющих облик жизни современного общества.[432] Ю.Скуратов идеологией называл общий компонент всех элементов политической системы,[433] а Д.Грант считал, что идеологи призваны интеллектуально соблазнять массы.[434] М.Рокар писал об идеологии, как о философии мира и жизни, а у А.Баллока она есть не более чем замкнутая система партийных убеждений.[435]
К.Ясперс считал идеологию системой идей, служащих субъекту суррогатом истины,[436] а Э.Фромм думал, что идеология призвана оправдывать все аморальные, с позиций индивидуальной этики, действия. В.Гавел усматривал в идеологии бутафорию "надличностного", "вуаль потерянного бытия",[437] мост между политическим режимом и народом, а М.Шимечке идеология казалась зеркалом, из трещин которого выглядывает "рожа действительности". В идеологии, писал Н.Бердяев, реализуется "прагматизм лжи," в котором так или иначе нуждается общественная жизнь.[438]
А.Богданов считал идеологию чем-то вроде социального клея, которым в обществе все согласовывается и стройно связывается. Для Р.Арона идеология есть представление о должном, а для О.Ланге это всего лишь систематизированное собрание общественных идей. Д.Белл считал, что идеология превращает идеи в социальные рычаги,[439] а Е.Вятр определял ее как систематизированную совокупность взглядов, имеющих функциональную связь с интересами и стремлениями общественной группы, в которую входят возникшие на основе опыта данной группы идеи, отображающие и оценивающие действительность, а также директивы к действиям, основанные на этих идеях.[440]
Идеологии укрепляют ценности и установки, излагают теорию прошлого, узаконивают настоящее и рождают мечты о будущем. Они помогают сформулировать подход к современным проблемам, возбуждают энергию и определяют мотивы, необходимые для эффективного решения этих проблем, писал Г.Кан.[441] Поэтому идеология включает в себя убеждения, теории, верования, а также выражение последних словами, письменными знаками, рисунками, жестами и другими способами.[442] К.Леви-Строс считал идеологию производной от мифологии, а В.Чивилихин - политической идеей, сопротивление которой ведет обычно к революции.[443]
Как писал В.Розанов, вино, чай, "большие рыбы", варенье и хорошая квартира как символы капитализма, прокрались в Россию контрабандою.[444] Но очевидно, что именно так в общество проникают новые идеологии. И хотя в экономической науке угроза трактовки абстрактных слов, как эквивалентов вещам, была распознана уже во второй половине XIX в.,[445] еще и сегодня "неслыханные слова" действуют постольку, поскольку продолжает сохраняться ощущение, что это не слова.[446] По мнению П.Бурдье, идеологическое внушение совершается агентом государства, владеющим монополией легитимного символического насилия,[447] что и позволяет политическому функционеру "делать будущее правдой".[448] Говоря о господстве "отвлеченной мысли", М.Бакунин писал, что за ней скрывается монополия элиты на истину.[449] У Г.Марселя идеологии плохи своей способностью принуждать людей следовать мертвым постулатам.[450] Ведь, в сущности, всякая доктрина, ограничивающая свободу выбора, ослабляет индивидуальную ответственность. Тем самым она создает психологические установки, поддерживающие тоталитарное государство.[451] Не удивительно, что с концом "века идеологий" З.Бжезинский и Д.Белл связывали свои надежды на счастье человечества.[452]
Сегодня деидеологизация охватила посттоталитарные страны, отразившись в их конституциях. Однако, политическая жизнь без стратегий вряд ли возможна. Поэтому реальная проблема посттоталитарных стран состоит, как представляется, не столько в отказе от идеологии, сколько в признании идеологического плюрализма, права человека на неконформное поведение и сопротивление организациям, основанным на моноидеологическом или просто коллективном интересе. Очевидно, что граждане современных государств должны быть защищены не только от физического, но также и от идеологического насилия. Их интеллектуальная свобода должна быть защищена не только от правительства, но и от демократии. Ведь и сегодня законы слишком часто оказываются не более, чем рычагами исполнительной власти государства.
Проблема, однако, стоит шире и заключается не только в законах. Из отрицания моноидеологии вытекает также и то, что всякая возможная государственная экспертиза интеллектуальных проектов гражданского общества не может и не должна признаваться окончательной. Государство также не должно сертифицировать частные образовательные учреждения, принимать обязательные для них учебные программы и др.[453] Иными словами, граждане посттоталитарных стран должны быть защищены от рецидивов интеллектуально-корпоративного насилия.
Следует признать, что государство давно осознало, что идеи способны переворачивать мир, и что социальная динамика мира основывается на убеждениях. Отрицая разногласие умов по основным вопросам бытия, государство обычно уважает традицию, как важнейшее условие социального порядка. Еще Т.Гоббс писал, что политической власти присуще судить о мнениях, препятствующих или содействующих водворению мира; о людях, обращающихся с речами к народной массе, а также о доктринах неопубликованных книг.[454] У Д.Локка правитель может запретить опубликование мнений, подрывающих власть правительства,[455] а у В.Розанова правительственный функционер должен быть свободным "от гнета печати" и исходить в своих действиях лишь из собственных убеждений и принципов.
А.Миллер писал, что не бывает правительства, не стремящегося скрыть нежелательную для политической власти правду.[456] Ведь сохранение стабильности заложено в правительственной природе. По свидетельству Ф.Броделя, государство всегда надзирало над движениями культуры, оспаривающими традицию, опасаясь быть захваченным врасплох какими-либо новшествами. Доказательства этого мы обнаруживаем как в эпоху Лоренцо Великолепного, так и в канун Французской революции. Иными словами, логика власти закономерно не совпадает с логикой прессы - во все времена и во всех странах.[457] Судьбы Анаксагора и Сократа лишь напоминают нам, что и в Греции инакомыслие порой путали с ересью, а свободные размышления - с опасными мыслями.
Поскольку государство не может разрешить коллизию науки и идеологии, не признающей "свободы научного искания", научная мысль ни в коем случае не должна соединяться с государственной силой. Ведь подлинная научная мысль является, главным образом, источником народного, а не государственного богатства. Примечательно, что высказывания В.И.Ленина об интеллектуальной свободе расходились до противоположности в зависимости от того, в какой роли - общественного или государственного деятеля - он выступал.[458]
Как писал Д.Фурман, любая тирания делает вид, что она избрана народом, любая олигархия - что она элита талантов, любая политическая догма - что она научная теория.[459] По этой причине не только правительства, но и парламентские большинства почти всех стран пытаются контролировать средства массовой информации: телевидение, радио и печать.[460] Удивительную же терпимость французского абсолютизма к Вольтеру Д.Писарев объяснял лишь тем обстоятельством, что сила мысли и возможные последствия ее применения в те времена еще не осознавались начальствующими лицами. Как считал Г.Шпет, "зажигая государственные огоньки" нельзя не "погасить свободное распространение света",[461] ведь стратегия всякого политического руководства рассматривает доктрины не как правильные или ложные, а только как благоприятные для организации или опасные для нее. Доктрина ортодоксальна, если способствует единству организации, и еретична, если подрывает его.
По мнению Т.Адорно, антиинтеллектуализм укоренен в государственном мышлении. И хотя государство постоянно твердит, что критика должна быть ответственной, из этого вытекает лишь то, что право на критику имеет политический истэблишмент. Так из человеческого права и гражданской обязанности критика превращается в привилегию. Неудивительно, что все функционально связанные с политическим режимом в стране лица обычно воздерживаются от критики политического порядка.[462] Как писал М.Салтыков-Щедрин, здесь возникает порочный круг: как бы и нужна самостоятельность, и не нужна. То есть нужна "известная" самостоятельность. Как бы и нужна критика, и не нужна. То есть, опять-таки, нужна "известная" критика.[463]
Позиция государства, говорил Л.Эрхард, не вызывает воодушевления народа, ибо государство стремится водить свободу на помочах.[464] Правительства, отрицающие свободу говорить, что каждому вздумается, Б.Спиноза считал насильническими. Бюрократы всегда разведывают настроения граждан, угрожающие системе политического контроля, а управляемые - решения бюрократов, не совпадающие с их интересами, что закономерно.[465] Именно поэтому правительства, запрещающие свободно писать по вопросам управления, являются негодными,[466] а правительства, претендующие на вседозволенность, считаются деспотическими.[467]
Поскольку, как принято сегодня считать, недоступность информации даже для половины населения страны обычно разрушает механизм демократии, утаивание информации компрометирует власть больше, чем принятие ею плохих решений. В результате, государственный истэблишмент вырабатывает специальный, лишь внешне кажущийся открытым язык политики.[468] Так возникает феномен политической "логократии", то есть современной системы изощренного применения слова.[469] Как констатировал М.Шимечка, обычные люди в этом смысле могут лишь жалко подражать профессионалам.[470]
Оценивая политическое поведение советской бюрократии, А.Оболонский указывал на использование ее представителями речевых клише, специального языка для посвященных.[471] Впрочем, язык политического доминирования всегда применялся для легитимации государства,[472] а угроза дезориентации общественного мнения демагогами никогда не переставала быть реальной.[473] Как писал еще Ж.Мелье, власть всегда хочет, чтобы массы не знали многого о существующем, и верили в то, чего на самом деле нет.[474] Иными словами, для власти всегда существует соблазн подавления воображения гражданского общества и распространения атмосферы интеллектуального изоляционизма.
Именно поэтому интеллектуальная активность гражданского общества не совпадает с идеологической активностью государства. И хотя, в конечном счете, государству также выгодна свобода и демократия, эта выгода существует для государства лишь стратегически, как бы только в исторической перспективе. Наоборот, гражданское общество может развиваться исключительно в условиях повседневной интеллектуальной свободы, хотя стратегически и оно заинтересовано в порядке и стабильности.
Д.Шумпетер, по-видимому, был прав, когда писал, что ни одно современное общество не обеспечивает абсолютной свободы, равно как и ни одно государство не сводит ее к нулю.[475] Однако по контрасту с государством, в гражданском обществе императив интеллектуальной свободы доминирует. "Превратившись в правительство", - писал О.Конт, мысль тотчас же развращается. В здоровом же виде она недовольна существующим. Если наш век действительно является веком свободы, то одновременно он является и веком критики, которой подчинено все. В самом деле, лучше вообще не мыслить, чем только соглашаться. Да и как можно познать истину без мнений, противоположных нашим, спрашивал Ж.Ламетри.[476]
По мнению В.фон Гумбольдта, гарантию прогресса может дать лишь автономная позиция общества по отношению к государственной власти. Иными словами, для обеспечения прогресса необходимо соединение "господствующей" и "подчиненной" частей нации таким образом, чтобы первой гарантировалось сохранение власти, а второй - обеспечение выгод свободы. Лучшим поэтому он считал политическое устройство, способное воспитывать в гражданах высочайшее уважение к чужому праву в соединении с любовью к собственной свободе. Кроме того, государство не должно угрожать интеллектуальной свободе, ибо, с точки зрения народного суверенитета, интеллектуальная цензура политически абсурдна. Логично поэтому, что в свободном обществе единственным эффективным способом нейтрализации негативного влияния прессы является увеличение количества ее источников до неограниченных пределов.[477]
В сущности, антагонизм государственного порядка и свободы гражданского общества всегда выгоднее признавать открыто. Поскольку интересы прогресса требуют ценить гражданскую свободу выше, чем государственный порядок, из этого следует, что свобода интеллектуальной активности должна быть защищена конституцией, а информационная активность гражданского общества выведена за пределы законодательного (кроме таких норм, как правила доставки почты) регулирования. Иначе говоря, если правительственные и вообще какие-либо официальные властные инстанции запрещают искажать правду, то этого уже достаточно, чтобы создать смертельную опасность интеллектуальной свободе человека. Ведь за этим реально кроется абсурдность признания, что некто заведомо знает правду или владеет ее критериями.[478] Поэтому не стоит удивляться, что американская конституционная система и основанная на ней доктрина считает свободу убеждений более священной, чем даже честь национального флага.[479] Следует также упомянуть, что в рамках американской традиции свобода печати означает, что люди могут печатать и передавать в эфир неразумную, нецивилизованную, неприятную, неправдивую, опасную и подстрекательскую информацию. Ибо именно такова, как пишет Д.Уэбстер, оказывается порой цена свободы.[480]
В свое время А.Солженицын обоснованно назвал "лютой опасностью" государственное вмешательство в информационные процессы. Поскольку же пресечение информации ведет к энтропии и разрушению,[481] все препятствия для свободного обмена идеями в обществе должны быть уничтожены. Характерно, что уже К.-А.Гельвеций ограничение свободы слова трактовал как оскорбление нации. Не услышанный голос народа порождает апатию, апатия же способна разрушить демократию.
Примечательно, что в Швеции право доступа граждан страны к государственной информации уже 200 лет является одним из основных конституционных принципов. Уже в 1766 г. специальный закон предусмотрел здесь свободный доступ населения к документальным материалам из государственных архивов.[482]
Известно также, что В.Вернадский теоретическую активность гражданского общества считал свободной в англосаксонских и скандинавских странах и несвободной в СССР.[483] Как свидетельствует М.Джилас, ни одно великое научное открытие не было сделано в стране,[484] где объятый отчаянием дух творил под маской оптимизма. Наоборот, в США мнения независимых ученых побудили Конгресс принять решение о том, чтобы в правительственных подходах использовались, где это возможно, лишь научные установки.[485] Впрочем, как заметил однажды Д.Оруэлл, повсюду писатель в политике не солдат, а партизан. Как принято считать, в царской России литература долгое время играла роль парламента,[486] а в Центральной Европе именно писатели первыми попытались внедрить мораль в политику.[487] Поэтому они взяли на себя здесь даже больше политической ответственности, чем их коллеги на Западе. Исключения при этом лишь подтверждают правило. Как писал И.Лысяк-Рудницкий, уже политический режим Б.Хмельницкого потерпел фиаско из-за недостатка интеллектуалов, публицистов и мудрых законодателей.
В свое время О.Уайльд писал о ценности людей, умеющих выходить за границы жизненной прозы. Обычно ведь именно индивиды, не обремененные властью, обеспечивают ренессанс идей.[488] Идеи же существуют лишь в условиях свободной конкуренции. Даже на случай войны К.Ясперс допускал ограничения только в отношении сведений, а не мнений. В свободной стране, писал А.Моруа, даже несправедливая критика властей оказывается полезной. Ничто не способно возмутить граждан США больше, чем попытка скрыть от них информацию на том основании, что она может оказаться вредной для лиц, облеченных властью.[489] Не удивительно также, что интеллектуальная свобода для А.Сахарова была единственной гарантией от заражения народа массовыми мифами.
Как принято считать, от интеллектуальной политической активности человека нельзя требовать большего, чем только распространения мнений, в которые он верит сам. Ведь интеллектуальная истина добывается в усилиях, главным образом, нравственного и умственного характера. Закономерно, что Т.Дезами считал враждебным прогрессу любое ограничение свободы дискуссии, а Л.Фейербах - что книги следует защищать так же, как жизнь граждан. Ведь оригинальные книги - это не что иное, как "солнца в ночи времен" (К.-А.Гельвеций).
Как известно, В.Вернадский считал необходимым существование исключающих друг друга интеллектуальных представлений и систем. Ибо точка зрения, как писал Х.-Г.Гадамер, которая возвышается над другими в роли истинного тождества проблемы, есть чистая иллюзия.[490] Вот почему между истинной наукой и религией конфликта не существует. Мистиками были А.Эйнштейн, Н.Бор, Э.Шредингер, Т.де Шарден.[491] И у М.Хайдеггера человеческая история, философия и политика не детерминированы в марксистском смысле.[492]
Создание истин - трудное дело, говорил Ф.Ницше. Недаром вербализацию мысли Л.Шестов считал "целым искусством", которому у М.Хайдеггера сопутствует ужас творческой тоски, далекий мирному самодовольству уютных занятий.[493] В целом, мышление человека является настолько сложным, хрупким и тонким процессом, что почти всякое организационное насилие уничтожает его. По мнению П.Юркевича, в человеческом духе есть то, что католики называют "сверхдолжными делами у Святых своих".[494] Закономерно поэтому, что свобода слова, культурный, религиозный, политический плюрализм и сегодня остаются предметом главной заботы интеллигенции в посттоталитарных странах. Именно здесь писателю уместно ощутить себя на месте самого высокого политического деятеля (А.Довженко).
Как доказали Д.Лакофф и М.Джонсон, идея существования абсолютной объективной истины опасна в социальном и политическом плане.[495] Ведь каким бы значительным не было логическое воздействие мысли на историю, человеческое мышление все равно следует толковать психологически, а не как логически обусловленный процесс.[496] Не случайно Х.Ортега-и-Гассет называл рационализм одной из форм интеллектуального ханжества, а А.Бирс определял "реализм", как искусство изображения природы с точки зрения лягушки.[497] "Я мыслю - это не источник, это завеса", - говорил Г.Марсель.[498] Для А.Уайтхеда ментальность есть фактор упрощения, а интеллектуальная видимость, в свою очередь, упрощенным выражением реальности.
Видимо, по этой же причине А.Вайда отрицал примат политической идеи в ущерб человеческому счастью,[499] а П.Валери говорил о разуме, действующем вопреки природе человека. Чем больше развивается разум, тем меньше остается места воображению, писал аббат Трюбле еще в 1735 г.
Истинно свободен лишь тот, кто обращается с идеями, не полагаясь исключительно на логику. Ведь логика, как писал Р.Гари, подобна тюрьме, а строгие принципы способны не только озарить мир, но и сжечь его. Для Г.Моска гонения и кровопролития всегда предпринимались именем доктрин, провозглашавших свободу, равенство и братство. Поэтому требование, чтобы наши идеалы были осуществлены в действительном мире, есть тюрьма, из которой мудрости следует давно освободиться, писал Б.Рассел
Любые идеи остаются, в конечном счете, обскурантистскими. Любое слово, писал А.Богданов, не только закрепляет содержание опыта, но и стесняет его. Слово есть догмат, а догмат - это явно выраженное запрещение думать, говорил Л.Фейербах. Догма - это "массовый идейный костюм" у А.Богданова, она же - "чугунные отливки" ума для А.Уайтхеда. Догма держит мысль по стойке "смирно". "Каждый, - писал М.Вебер, - кто когда-либо работал с применением марксистских понятий, хорошо знает, как велико неповторимое эвристическое значение этих идеальных типов, если пользоваться ими для сравнения с действительностью, но в равной мере знает и то, насколько они могут быть опасны, если рассматривать их как эмпирически значимые или даже реальные (то есть, по существу метафизические) "действующие силы", "тенденции" и т.д."[500]
Теоретической политической активности известен не только простой, но и сложный догматизм. Будучи представлен догматиками-виртуозами, сложный догматизм может быть даже диалектичен. Но и в этом качестве последний противен разуму. Доктрины, говорил У.Самнер, есть ужасные тираны. Овладевая человеческим рассудком, они тем самым предают его. Философии не случайно присуще тираническое влечение к власти, претензия быть causa prima.[501] Примечательно, что по свидетельству Н.Берберовой, Г.Уэлс и М.Горький считали себя лучшими умами в мире, которые не могут ошибаться,[502] а Э.Канетти проявления этого же синдрома обнаруживал у Д.Свифта, всегда якобы дававшего почувствовать своему читателю, насколько же лучше он мог бы обустроить описываемые им королевства сам. Даже М.Лютер хотел уложить человеческую мысль в "заранее приуготовленную им коробочку" (Д.Писарев). Известно, что Л.Шварцшильд считал К.Маркса личностью, уверенной в своем праве манипулировать людьми. Неудивительно поэтому, что Э.Канетти, А.де Сент-Экзюпери и А.Бирс серьезно опасались всезнаек, а М.Бакунин "превышение своего знания" и "презрение ко всем незнающим" считал органическими пороками ученых. Дай волю педанту, и он начнет ставить над человечеством опыты как над кошками и собаками, говорил он.[503] У П.Сорокина умники в политике всегда обманывают невежд.[504] Поэтому интеллектуальный деспотизм в целом, начиная с безумия охоты на ведьм, всегда был крупной политической проблемой.[505]
Оценивая размеры тиражей сочинений классиков марксизма-ленинизма и энергию, с которой распространялись их книги, удивительными сегодня кажутся не масштабы распространения этой идеологии, а ее фиаско. Как писал Ж.-Ф.Ревель, хотя восстание против европейского демократического капитализма в 1968 г. потерпело неудачу, оно было предпринято студентами лучших университетов мира, которые всем иным идеям парадоксальным образом предпочли идеи Мао Цзедуна и Ф.Кастро, заложившие основу не лучшего правления, а террора, не социальной справедливости, а экономической некомпетентности, не свободы, а преступлений против нее.[506]
Чтобы избежать политической диктатуры, мы должны жить в умственно подвижной терпимой интеллектуальной среде, открытой воображению и стилевому многообразию. Естественно, что подобная жизнь во многих аспектах воспринимается скорее игрой, чем "подлинной жизнью". Ведь ее темп и ритм, а также традиционные риски не задаются властью, не являются предметом заботы государства и возникают спонтанно. С другой стороны, такая жизнь нуждается в "негативных" правовых гарантиях невмешательства.
В конституционном аспекте это означает, что интеллектуально-креативная инфраструктура гражданского общества должна быть защищена от всякого официального, прежде всего государственного, вмешательства. Из этого также вытекает, что никакие сведения не могут считаться тайными неограниченно долго, что частные лица не должны и не могут нести ответственность за разглашение государственной тайны, что свобода слова не может быть ограничена как живой политической (воплощенной в людях), так и абстрактной правовой властью. Духовной свободе вредит любое ограничение. С другой стороны, сохранение безопасности государства вовсе не требует, чтобы развитию умов давалось определенное направление.[507] В сфере интеллектуального соревнования, открытого для всех, государству вряд ли уместно претендовать на котурны и нимб над головой,[508] ибо сегодня считается доказанным, что интеллектуальный патернализм ведет лишь к деградации и "социальному идиотизму" (Ю.Каныгин).
Судя по всему, моральный кризис, переживаемый сегодня в посттоталитарных странах, является глубоко закономерным. Характерно, что даже выход из него переживается как фрустрация, "посттоталитарная депрессия" (С.Хантингтон). На этом фоне более благополучные нации продолжают прогрессировать. Перешагнув через индустриализацию и информатизацию, страны-лидеры ориентируются теперь на ценности коллективного воображения. Иными словами, возникает реальность, в которой мода, секс, честь, аристократизм, этикет и воспитанность воспринимаются реальными и даже порой доминирующими ценностями, а не презираемой тоталитаризмом "чепухой". Именно игровое, легкое отношение к жизни во многих отношениях делает ее цивилизованной. Ведь когда видишь, какие бедствия и какую угрозу человеческому роду породили века серьезной работы мозга, писал Г.Грин, тянет заглянуть в прошлое и установить, где же мы сбились с пути...[509]
Касаясь правовых аспектов темы, следует признать, что конституционные формы обеспечения теоретической политической активности в посттоталитарных странах являются однотипными. Почти повсеместным здесь стал запрет цензуры. Такой запрет содержится в ст. 67 Конституции Узбекистана 1991 г.; ст. 33 Конституции Молдовы 1994 г. ("творчество не подлежит цензуре"); ст. 21 Конституции Японии 1947 г. ("никакая цензура не допускается"); ст. 44 Конституции Литвы 1992 г. ("цензура массовой информации запрещается"); ст. 29 Конституции России 1993 г.; ст. 38 Конституции Хорватии 1990 г. (запрет цензуры дополнен здесь правом журналистов на свободу подачи репортажного материала и доступа к информации); ст. 21 Конституции Италии 1947 г.; ст. 5 Конституции ФРГ 1949 г. ("цензуры не существует"); ст. 15 Конституции Украины 1996 г.; ст. 14, 54 Конституции Польши 1997 г. В ст. 61 Конституции Венгрии 1990 г. принятие законов о надзоре за публичным радио, телевидением и агентством новостей возможно лишь в случае, если за такой закон проголосует 2/3 представителей Национальной Ассамблеи.
В свою очередь, автономия высших учебных заведений предусмотрена в ст. 35 Конституции Молдовы 1994 г., ст. 58 Конституции Словении 1991 г., ст. 40 Конституции Литвы 1992 г., ст. 67 Конституции Хорватии 1990 г., ст. 53 Конституции Болгарии 1991 г., ст. 46 Конституции Македонии 1991 г., ст. 33 Конституции Италии 1947 г., (здесь в приравненных к государственным частных школах также должна сохраняться полная свобода).[510]
В ст. 70 Конституции Венгрии 1990 г. утверждается, что "решать научные вопросы... и определять научную значимость исследований является исключительным правом лиц, которые способствуют развитию науки".[511]
Общая свобода интеллектуального творчества защищена посттоталитарными конституциями более разнообразно. Например, в ст. 32 Конституции Молдовы 1994 г. говорится о свободе мысли и выражения, включая свободу взглядов и публичных высказываний. Ст. 59 Конституции Словении 1991 г. говорит о свободе научного и художественного творчества. Ст. 29 Конституции Узбекистана 1991 г. защищает свободу мысли, слова и убеждений. Ст. 19 Конституции Японии 1947 г. гарантирует ненарушимую свободу мысли, совести, слова, печати и всех иных форм выражения мнений, а ст. 42 Конституция Литвы 1992 г. закрепляет свободу культуры, науки и исследований. Ст. 27 и 29 Конституция России 1993 г. гарантирует свободу мысли, слова, а также художественного, научного и технического творчества. О свободе литературного творчества и преподавания говорится в ст. 44 Конституции России 1993 г. Ст. 38 Конституции Хорватии 1990 г. гарантирует свободу мысли и ее выражения, включая свободу печати и иных средств массовой информации, свободу слова и публичного высказывания, а также свободу создания средств общественного информирования. В ст. 68 этой же Конституции к ним добавлена свобода научного, культурного и художественного творчества. Ст. 37 и 54 Конституции Болгарии 1991 г. гарантирует свободу совести, мысли, выбора вероисповедания, а также свободу художественного, научного и технического творчества. Ст. 16 Конституции Македонии 1991 г. гарантирует свободу личных убеждений, совести, мысли и их публичного выражения. Конституцией гарантируется также свобода публичных обращений и создание свободных общественных средств информации. В соответствии со ст. 33 Конституции Италии 1947 г. искусство, наука и преподавание провозглашены свободными. По ст. 5 Конституции ФРГ 1949 г. каждый может свободно черпать знания из общедоступных источников. Автономия высшей школы обеспечивается в ст. 70 Конституции Польши 1997 г.
Что же касается конституционных ограничений интеллектуальной активности в посттоталитарных странах, то они предусмотрены в большинстве их конституций, хотя условия и объем таких ограничений различны. Например, в ст. 32 Конституции Молдовы 1994 г. запрещаются и караются законом отрицание существования народа и государства Молдова, призывы к агрессивной войне, национальной или расовой вражде, подстрекательство к дискриминации, территориальному сепаратизму, гражданскому насилию, а также иные действия, посягающие на конституционный режим.[512] В ст. 34 этой же Конституции записано, что право на информацию не должно причинять вреда действиям, имеющим целью защиту граждан или национальной безопасности. Ст. 29 Конституции Узбекистана 1991 г. запрещает распространение информации, направленной против существующего конституционного строя. Свобода мнений и их выражения может ограничиваться по мотивам государственной или иной тайны.[513] В ст. 18 Конституции ФРГ 1949 г. записано, что каждый, кто использует свободу выражения мнений, свободу печати и свободу преподавания для борьбы против основ свободного демократического общества, лишается основных прав.[514] В ст. 41 Конституции Болгарии 1991 г. право распространения информации не может быть использовано против прав и доброго имени других граждан, национальной безопасности, гражданского порядка, здоровья населения и морали. Ст. 29 Конституции Узбекистана 1992 г. запрещает искать, получать и распространять информацию, направленную против существующего в стране конституционного строя. Кроме того, свобода мыслей и их высказывания ограничивается мотивами сохранения государственной или иной тайны.[515] Ст. 21 Конституции Италии 1947 г. запрещает печатные произведения, зрелища и манифестации, противоречащие добрым нравам. Свобода преподавания не освобождает от верности Конституции, гласит также ст.5 Конституции ФРГ 1949 г.
Достоверность информации, как предварительное и обязательное условие возможности ее распространения, предусматривается в ст. 67 Конституции Узбекистана 1991 г., ст.34 Конституции Молдовы 1994 г., ст. 67 Конституции Узбекистана 1992 г. Специально подчеркнута информационная свобода в конституциях Узбекистана, Молдовы, Венгрии, Болгарии, Словакии, Литвы, Италии, ФРГ. Запрет монополии средств массовой информации записан в Конституции Литвы 1992 г.
Что же касается гарантий интеллектуальной политической активности в Конституции Украины 1996 г., то они начинаются с закрепления в ст. 15 Конституции принципа политического и идеологического плюрализма. В соответствии с Конституцией Украины никакая идеология не может признаваться обязательной. Стоит заметить, что данная формула, если ее трактовать буквально, образует ситуацию понятийного круга, в которой тезис упраздняет сам себя. Ведь необязательной в таком случае является и идеология данной статьи. Возможно, лучшим вариантом было бы провозгласить в Конституции Украины идеологию открытого, свободного и демократического общества. Отказываясь же от любой идеологии, Конституция Украины, пусть только формально, санкционирует политический произвол.
Свобода политической деятельности, не запрещенной Конституцией и законами Украины, гарантирована ч. 4 ст. 15 Основного Закона. Однако, и в этом случае невольно возникает структурное напряжение. Следуя логике статьи, политика выступает в Конституции Украины как послеправовая реальность, в то время как на самом деле она во многих отношениях остается реальностью предправовой. Ведь в историческом, политическом и хронологическом смысле (порядке) политический дискурс опережает тенденции, принципы и конкретное содержание законов.
Кроме того, записанное в ст. 34 Конституции Украины 1996 г. право каждого на свободу мысли и слова, свободное выражение взглядов и убеждений, а также право собирать, использовать и распространять информацию может быть ограничено законом в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка с целью предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения, для защиты репутации или прав других людей, для предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, либо для поддержания авторитета и непредвзятости правосудия, то есть по 11 основаниям.
Право на свободу мировоззрения и вероисповедания в соответствии со ст. 35 Конституции Украины 1996 г. может быть ограничено по 5 основаниям. Право граждан Украины на свободу объединения в политические партии и общественные организации для осуществления и защиты своих прав и свобод, а также удовлетворения политических и иных интересов (ч. 1 ст. 36 Конституции Украины 1996 г.) может быть, в свою очередь, ограничено в интересах национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья населения, защиты прав и свобод других людей. В ст. 37 Конституция Украины 1996 г. признает порочными еще 14 целей, преследование которых является непреодолимым препятствием для создания и деятельности политических партий и иных общественных организаций в Украине.
Ст. 54 Конституции Украины 1996 г. гарантирует свободу литературного, художественного и научного творчества, защиту интеллектуальной собственности и авторских прав. В ст. 50 этой же Конституции гарантируется свобода доступа к информации о состоянии окружающей среды, качестве пищевых продуктов и бытовых предметов, а также право на распространение такой информации. Стоит добавить, что такая информация не может быть засекречена.
В ч.2 ст. 105 Конституции Украины 1996 г. предусматривается ответственность за посягательство на честь и достоинство Президента, а в ч. 1 ст. 65 Конституции Украины 1996 г. закреплена обязанность ее граждан уважать государственные символы. Информационная безопасность страны объявлена в ч. 1 ст. 17 Конституции Украины 1996 г. "делом всего народа", что весьма затруднительно прокомментировать.
[1] Аристотель. Политика. - М.: 1893. - С. 93.
[2] Toffler A. The Third Wave. - N.-Y.: Bantam Books, 1994. - P. 373.
[3] Rawlz J. Political Liberalism. - N.-Y.: Columbia University Press, 1993. - P. 11.
[4] Рокар М. Трудиться с душой. М.: Международные отношения, 1991. - С. 131.
[5] Easton D. A Systems Analysis of Political Life. - Chicago: University of Chicago Press, 1965. - P. 507.
[6] Аршинов В., Климонтович Ю., Сачков Ю. Естествознание и развитие: диалог с прошлым, настоящим и будущим // Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. - М.: Прогресс, 1986. - С. 410.
[7] Рассел Б. Человеческое познание. - М.: Изд-во иностранной литературы, 1957. - С. 284.
[8] Malinowsky B. Freedom and Civilization. - London: George Allen, 1947. - P. 137.
[9] Маркарян Э. Теория культуры и современная наука. - М.: Мысль, 1983. - С. 101.
[10] Дойч К. Основные изменения в политологии // Политические отношения: прогнозирование и планирование. - М.: Наука, 1979. - С. 84.
[11] Шпет Г. Сочинения. - М.: Правда, 1989. - С. 351.
[12] Skocpol T. Social Revolutions in the Modern World. - N.-Y.: Cambridge University Press, 1994. - P. 79.
[13] Башляр Г. Новый рационализм. - М.: Прогресс, 1987. - С. 85.
[14] Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 6. - С. 99.
[15] Уайтхед А. Избранные работы по философии. - М.: Прогресс, 1990. - С. 605.
[16] Локк Д. Сочинения. В 3-х т. Т.2. - М.: Мысль, 1985. - С. 65.
[17] Лебедев П. Об устойчивости и изменчивости системы государственного управления. - Советское государство и право, 1985, № 7. - С. 16.
[18] Talmon J. The Origins of Totalitarian Democracy. - London: Secker and Warburg, 1952. - P. 2.
[19] Богданов А. Всеобщая организационная наука (Тектология). Ч. 1. - Л.-М.: Книга, 1925. - С. 119.
[20] Ницше Ф. Антихристианин // Сумерки богов. - М.: Прогресс, 1989. - С. 85.
[21] Руссо Ж.-Ж. Трактаты. - М.: Наука, 1969. - С. 312.
[22] Кавелин К. Наш умственный строй. - М.: Правда, 1989. - С. 221.
[23] Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства. - М.: Радуга, 1991. - С. 49.
[24] Лосский Н. Избранное. - М.: Правда, 1991. - С. 527.
[25] Milosz C. Visions from San-Francisco Bay. - N.-Y.: Farrar Straus Giroux, 1983. - P. 126.
[26] Аристотель. Сочинения. В 4-х т. Т.4. - М.: Мысль, 1983. - С. 382.
[27] Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия. - М.: Наука, 1991. - С. 11.
[28] Дезами Т. Кодекс общности. - М. : Изд-во АН СССР, 1956. - С. 392.
[29] Riesman D. The Lonely Crowd. - N.-Y.: Doubleday Anchor Books, 1953. - P. 37.
[30] Тойнби А. Постижение истории. - М.: Прогресс, 1991. - С. 303.
[31] Хикель Э. Разрушить непонятное // Философия техники в ФРГ. - М.: Прогресс, 1989. - С. 468.
[32] Зиновьев А. Зияющие высоты. Т. 1. - М.: Изд-во ПИК, 1990. - С. 224.
[33] Milosz C. Visions From San-Francisco Bay. - N.-Y.: Farrar Straus Giroux, 1983. - P. 112.
[34] Dewey J. Essential Writings. - N.-Y.: Harper Torhbooks, 1977. - P. 222.
[35] Эфроимсон В., Изюмова Е. На что надеемся или нужно растить гениев // Квинтэссенция. - М.: Политиздат, 1990. - С. 33.
[36] Носов Е. Что мы переживаем? - Литературная газета, 1988, 20 апреля. - С. 13.
[37] Зиновьев А. Нью Йорк: . Пара беллум. - М.: Московский рабочий, 1991. - С. 122.
[38] Степанов И. Конституция и политика. - М.: Наука, 1984. - С. 36.
[39] Блок М. Апология истории. - М.: Наука, 1987. - С. 106.
[40] Заславская Т. О стратегии социального управления перестройкой // Иного не дано. - М.: Прогресс, 1988. - С. 15.
[41] Соловьев В. Сочинения. В 2-х т. Т. 1. - М.: Правда, 1989. - С.23-24.
[42] Липа Ю. Призначення України. - N.-Y.: Говерля‚ 1953. - С. 17.
[43] Хайдеггер М. Вопрос о технике // Новая технократическая волна на Западе. - М.: Прогресс, 1986. - С. 47.
[44] Рудич Ф. Политика как объект системного исследования. - Философская и социологическая мысль, 1990, № 1. - С. 24.
[45] Тойнби А. Постижение истории. - М.: Прогресс, 1991. - С. 94.
[46] Кон И. Психология социальной инерции. - Коммунист, 1988, № 1. - С. 64-75.
[47] Маркузе Г. Одномерный человек. - М.: REFL-book, 1994. - С. 294.
[48] Стрелер Д. Театр для людей. - М.: Радуга, 1984. - С. 255-256.
[49] См., например: Буроменский М. Политические режимы государств в международном праве. - Харьков: 1997.
[50] Toffler A. The Third Wave. N.-Y.: Bantam-Books, 1994. - P. 46.
[51] Mosca G. The Ruling Class. - USA: Greenwood Press, 1980. - P. 145.
[52] Gierke O. Natural Law and the Theory of Society. Translator's Introduction. - Boston: Beacon Press, 1950. - P. XXYIII.
[53] Ferguson A. An Essay on the History of Civil Society. - Edinburgh: Duncan Forbes, 1966. - P. 62.
[54] Easton D. A Systems Analysis of Political Life. - Chicago: University of Chicago Press, 1965. - P. 370.
[55] Krygier M. The Constitution of the Heart // Law and Social Inquiry. - Journal of the American Bar Foundation, 1995, Nb. 4, Vol. 20, Fall 1995. - P. 1057.
[56] Вейль С. Укорінення//Дух і літера. Т. 1.- Київ: 1997. - С. 242.
[57] Sokolewicz W. The Relevance of Western Models for Constitution - Building in Poland // Constitutional Policy and Change in Europe. - N.-Y.: Oxford University Press, 1995. - P. 250.
[58] Тоффлер О. Раса, власть и культура // Новая технократическая волна на Западе. - М.: Прогресс, 1986. - С. 276.
[59] Мид М. Культура и мир детства. - М.: Наука, 1988. - С. 49.
[60] Соловьев В. Сочинения. В 2-х т. Т. 1. - М.: Правда, 1989. - С. 75.
[61] Шаталин С. Издержки неизбежны, но... - Литературная газета, 1989, 11 октября. - С. 10.
[62] Савенков Ю. Китай: пора политической реформы. - Известия, 1989, 2 февраля. - С. 5.
[63] Лисяк-Рудницький І. Між історією й політикою. - Мюнхен: Сучасність‚ 1973. - С. 326-327.
[64] Schumpeter J. Capitalism, Socialism and Democracy. - London: George Allen, 1976. - P. 167.
[65] Азаров Н. В.И.Ленин о политике как общественном явлении. - М.: Высшая школа, 1975. - С. 39.
[66] Руткевич М. Проблема истины в сфере политического сознания // Новый мировой порядок и политическая общность. - М.: Наука, 1983. - С. 128.
[67] Рудич Ф. Политика как объект системного исследования. - Философская и социологическая мысль, № 1. - С. 25.
[68] Федосеев А. Политика как объект социологического анализа. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1974. - С. 21.
[69] Шапиро В. Социальная активность пожилых людей в СССР. - М.: Прогресс, 1983. - С. 70.
[70] Гулиев В. Теоретические вопросы социалистического самоуправления. - Советское государство и право, 1986, № 2. - С. 10.
[71] Гулиев В., Рудинский Ф. Социалистическая демократия и личные права. - М.: Юридическая литература, 1984. - С. 28-29.
[72] Социалистическое самоуправление: опыт и тенденции развития. - М.: Изд-во АН СССР, 1986. - С. 159.
[73] Клюев А. Особенности развития политической активности граждан при социализме // Политические институты и процессы. - М.: Наука, 1986. - С. 125.
[74] Чередниченко А. Культура активного политического действия. - М.: Мысль, 1986. - С. 110.
[75] Там же. - С. 23.
[76] Ковлер А., Смирнов В. Демократия и участие в политике. - М.: Наука, 1986. - С. 8.
[77] Ильинский И. Социалистическое самоуправление народа. - М.: Мысль, 1987. - С. 78.
[78] Тихомиров Ю. Проблемы активизации политических институтов. - Советское государство и право, 1986, № 6. - С. 14.
[79] Жигульский К. Праздник и культура. - М.: Прогресс, 1985. - С. 67.
[80] Атаманчук Г. Типичное и уникальное в организации государственного управления. - Советское государство и право, 1985, № 12. - С. 33-34.
[81] Цвик М. Социалистическая демократия и самоуправление. - Советское государство и право, 1985, № 4. - С. 5.
[82] Медушевский А. Реформы Петра Великого в сравнительно-историческом аспекте. - Вестник высшей школы, 1990, 3 2. - С. 81.
[83] Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. - М.: Новости, 1992. - С. 112.
[84] Mosca G. The Ruling Class. - USA: Greenwood Press, 1980. - P. 83.
[85] Литторин С.-О. Крушение социалистического мифа. - Москва-Минск: Полифакт, 1991. - С. 36.
[86] Курашвили Б. Политическая борьба и ее закономерности // Политические отношения: прогнозирование и планирование. - М.: Наука, 1983. - С. 58-59.
[87] Sartori G. Democratic Theory. - Westport: Greenwood Press, 1973. - P. 77.
[88] Bryce J. Modern Democracies. Vol. 2. - London: Macmillan, 1921. - P. 266.
[89] Мигранян А. Механизм торможения в политической системе и пути его преодоления // Иного не дано. - М.: Прогресс, 1988. - С. 104.
[90] Джефферсон Т. Автобиография. Заметки о штате Виргиния. - М.: Наука, 1990. - С. 197.
[91] Американские федералисты: Гамильтон, Мэдисон, Джей. - Vermont: Benson, 1990. - P. 181.
[92] Курашвили Б. Борьба с бюрократизмом. - М.: Знание, 1988. - С. 50.
[93] Новые конституции стран СНГ и Балтии. - М.: Манускрипт, 1994. - С. 351.
[94] Конституції нових держав Європи та Азії. - Київ: УПФ, 1996. - С. 121.
[95] Там же. - С. 344.
[96] Там же. - С. 374.
[97] Конституція України. - Київ: Україна, 1996. - С. 4.
[98] Конституції нових держав Європи та Азії. - Київ: УПФ, 1996. - С. 182.
[99] То, что конституция есть высшая деперсонифицированная нормативная структура, видно на примере ст.1 Конституции Италии 1947 г., в которой записано, что суверенитет народа (высшая политическая живая власть) осуществляется "в формах и границах" Конституции, а также на примере ст. 1 Конституции Греции 1975 г., в которой говорится, что "вся власть... осуществляется так, как это указано в Конституции" (см.: Конституции буржуазных государств. - М.: Юридическая литература, 1982 г. - С. 124, 340).
[100] Talmon J. Political Messianism. - London: Secker and Warburg, 1960. - P. 318.
[101] Конституции буржуазных государств. - М.: Юридическая литература, 1982. - С. 144.
[102] Там же. - С. 306.
[103] Конституції нових держав Європи та Азії. - Київ: УПФ, 1996. - С. 222.
[104] Сесардич Н. О некоторых идеологических препятствиях процессу демократизации Югославии. - Проблемы Восточной Европы, 1989, № 27-28. - С. 44.
[105] Котарбинский Т. Трактат о хорошей работе. - М.: Экономика, 1975. - С. 46.
[106] Богданов А. Всеобщая организационная наука (Тектология). Ч.1. - Л.-М.: Книга, 1925. - С. 143.
[107] Гумбольдт В.фон. Язык и философия культуры. - М.: Прогресс, 1985. - С. 25.
[108] Bryant C. Civic Nation, Civic Society, Civic Religion // Civil Society. - Cambridge, 1995. - P. 143.
[109] Gierke O. Natural Law end the Theory of Society 1500 to 1800. - Boston: Beacon Press, 1950. - P. 152, 157, 165.
[110] Гегель Г.В.Ф. Политические произведения. - М.: Наука, 1978. - С. 222.
[111] Хабермас Ю. Социальная проекция Фрейда и утопия общества. - Философская и социологическая мысль, 1990, № 2. - С. 90.
[112] Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. - М.: Наука, 1992. - С. 49-50.
[113] Russell B. Authority and the Individual. - N.-Y.: Simon and Shuster, 1949. - P. 67.
[114] Сегал Л. Конец эпохи ясности. - Проблемы Восточной Европы, 1989, № 27-28. - С. 10.
[115] Рейган Р. Выступление в МГУ. Рейган в Москве. Встреча в верхах. - USA: Изд-во Информационного агентства США, 1988. - С. 7.
[116] Talmon J. The Origins of Totalitarian Democracy. London: Secker and Warburg, 1952. - P. 35.
[117] См., например: ч. 1 ст. 94 Конституции Литвы 1992 г., ст. 114 Конституции России 1993 г., ч. 1 ст. 2 Конституции Греции 1975 г.
[118] Бэкон Ф. Новый органон. - М.: Главное социально-экономическое изд-во, 1938. - С. 214.
[119] Оссовская М. Рыцарь и буржуа. - М.: Прогресс, 1987. - С. 469.
[120] Пискотин М. Социализм и государственное управление. - М.: Наука, 1988. - С. 13.
[121] Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. - М.: Юридическое изд-во НКЮ СССР, 1939. - С. 293.
[122] Walzer M. Spheres of Justice. - USA: Basic Boors, 1983. - P. 37.
[123] Havel V. Open Letters. - N.-Y.: Vintage Books, 1992. - P. 75.
[124] Revel J.-F. Democracy Against Itself. - USA: Free Press, 1993. - P. 47.
[125] Вейль С. Укорінення // Дух і літера. Т. 1-2. - Київ: 1997. - С. 233.
[126] Макаренко В. Проблемы бюрократии в трудах классиков марксизма-ленинизма. - Советское государство и право, 1986, № 9. - С. 27.
[127] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 25, ч. 1. - С. 422.
[128] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 4. - С. 56-58.
[129] Гегель Г.В.Ф. Политические произведения. - М.: Наука, 1978. - С. 84.
[130] Revel J.-F. Democracy Against Itself. - USA: Free Press, 1984. - P. 30.
[131] Green D. Reinventing Civil Society. - London: IEA Unit, 1993. - P. 3.
[132] Easton D. A Systems Analysis of Political Life. - Chicago: University of Chicago Press, 1965. - P. 184.
[133] Novak M. The Spirit of Democratic Capitalism. - London: IEA Unit, 1991. - P. 416.
[134] Sartori G. Democratic Theory. - Westport: Greenwood Press, 1973. - P. 26.
[135] Walzer M. Spheres of Justice. - USA: Basic Books, 1983. - P. 300.
[136] Darendorf R. Roads to Freedom // Uncertain Futures: Eastern Europe and Democracy. - N.-Y.: 1990. - P. 13.
[137] Alexander J. Citizen and Enemy as Symbolic Classification: On the Polarizing Discourse of Civil Society // When Culture Talks: Exclusion and The Making of Society. - Chicago: 1993. - P. 291.
[138] Свінцицький В., Федорченко П. Громадянське суспільство в Україні: концепції і реалії // Бюлетень Міжнародного фонду "Відродження", № 4-5. - Київ: 1994. - С. 16.
[139] Seligman A. The Idea of Civil Society. - N.-Y.: Free Press, 1992. - P. 5.
[140] Интересно то, писал С.Верба, что сегодня многие страны движутся в "гражданском" направлении США и Великобритании, в то время как сами эти страны постепенно уходят с этой позиции ( см.: Verba S. On Revisiting the Civic Culture: A Personal Postscript // Civic Culture Revisited. - USА: Sage Publications, 1989. - P. 399.
[141] Ray L. A Thatcher Export Phenomenon? // Enterprise Culture. - London: Routledge, 1991. - P. 131.
[142] National Standards for Civics and Government. - USA: Center for Civic Education, 1994. - P. 47.
[143] Rawls J. Political Liberalism. - N.-Y.: Columbia University Press, 1993. - P. 136.
[144] Seligman A. The Idea of Civil Society. - N.-Y.: Free Press, 1992. - P.90.
[145] Spencer H. The Man Versus the State. - Indianapolis: 1981. - P. 397.
[146] Peres-Dias V. The Possibility of Civil Society: Traditions, Character and Challenges // Civil Society. - Cambridge: Polity Press, 1995. - P. 81.
[147] Bryant C. Civil Nation, Civil Society, Civil Religion // Civil Society. - Cambridge: Polity Press, 1995. - P. 143.
[148] Hall J. In Search of Civil Society // Civil Society. - Cambridge: Polity Press, 1995. - P. 2.
[149] Там же. - С. 6.
[150] Oxborn P. From Controlled Inclusion to Coerced Marginalization: the Struggle for Civil Society in Latin America // Civil Society. - Cambridge: Polity Press, 1995. - P. 251-252.
[151] Там же. - С. 32.
[152] Griner S. Civil Society and its Future // Civil Society. - Cambridge: Polity Press, 1995. - P. 304.
[153] Mouzelis N. Modernity, Late Development and Civil Society // Civil Society. - Cambridge: Polity Press, 1995. - P. 226.
[154] Talmon J. The Origins of Totalitarian Democracy. - London: Secker and Warburg, 1952. - P. 47.
[155] Krygier M. The Constitution of the Heart // Journal of the American Bar Foundation. Vol. 20, 1995, Nb. 4, Fall 1995. - P. 1051.
[156]Соловьев В. Сочинения. В 2-х т. Т. 2. - М.: Правда, 1989. - С. 331.
[157] Амелин В. Власть как общественное явление. - Социально-политические науки, 1991, № 2. - С. 15.
[158] Курашвили Б. Борьба с бюрократизмом. - М.: Знание, 1988. - С. 55.
[159] Гулиев В. К новому качеству советской политической системы. - Советское государство и право, 1987, № 9. - С. 7.
[160]Grimm P. Constitutional Reform in Germany after the Revolution 1989 // Constitutional Policy and Change in Europe. - N.-Y.: Oxford University Press, 1995. - P. 143-144.
[161] Grimm P. Constitutional Reform in Germany after the Revolution 1989 // Constitutional Policy and Change in Europe. - N.-Y.: Oxford University Press, 1995. - P. 144.
[162] Хаксли О. И после многих воен. - М.: Изд-во Сабашниковых, 1992. - С. 116.
[163] Saunders C. Evolution and Adaptation of the British Constitutional System // Constitutional Policy and Change in Europe. - N.-Y.: Oxford University Press, 1995. - P. 69; Preuss U. Patterns of Constitutional Evolution end Change in Eastern Europe // Ibid. - P. 95.
[164] Kommers D., Thompson W. Fundamentals in the Liberal Constitutional Tradition // Ibid. - P. 23, 24.
[165] Речицький В. Констітуція як форма осягнення влади. - Віснік АН України‚ 1993‚ № 11. - С.3-12; Речицький В. Конституційний процес в Україні як феномен демократії. - Вісник Академії правових наук України‚ 1995‚ № 4. - С. 125-134.
[166] Green T. Liberal Legislation and Freedom of Contract // Liberty. - N.-Y.: Oxford University Press, 1991. - P. 25.
[167] Kommers D., Thompson W. Fundamentals in the Liberal Constitutional Tradition // Constitutional Policy and Change in Europe. - N.-Y.: Oxford University Press, 1995. - P. 35.
[168] Гольбах П.-А. Избранные произведения. В 2-х т. Т. 1. - М.: Мысль, 1963. - С. 286.
[169] Руссо Ж.-Ж. Трактаты. - М.: Наука, 1969. - С. 117.
[170]Дурденевский В. Иностранное конституционное право в избранных образцах. - Л.: Государственное издательство, 1925. - С. 138.
[171] Там же. - С. 145.
[172] Там же. - С. 164.
[173] Конституции буржуазных государств. - М.: Юридическая литература, 1982. - С. 34.
[174] Дурденевский В. Иностранное конституционное право в избранных образцах. - Л.: Государственное издательство, 1925. - С. 179.
[175] Конституции буржуазных государств. - М.: Юридическая литература, 1982. - С. 178.
[176] Там же. - С. 32.
[177] Эбенстайн В. Государь, государство, общество. - Знание-сила, 1990, № 9. - С. 73.
[178] Не разделены интересы гражданского общества и государства в Конституции Узбекистана 1991 г., где в ст. 16 записано, что статьи Конституции не могут толковаться в ущерб Республике Узбекистан, а осуществление прав и свобод граждан не должно нарушать прав и свобод государства (ст. 20).
[179] Конституції нових держав Європи та Азії. - Київ: УПФ , 1996. - C. 454.
[180] Там же. - C. 516.
[181] Новые конституции стран СНГ и Балтии. - М.: Манускрипт, 1994. - С. 230.
[182] Конституції нових держав Європи та Азії. - Київ: УПФ, 1996. - С. 119 - 122; Новые конституции стран СНГ и Балтии. - М.: Манускрипт, 1994. - С. 542.
[183] Новые конституции стран СНГ и Балтии. - М.: Манускрипт, 1994. - С. 258.
[184] Конституції нових держав Європи та Азії. - Київ: УПФ, 1996. - С. 486.
[185] Шаповал В. Передмова // Конституції нових держав Європи та Азії. - Київ: УПФ, 1996. - С. YIII.
[186] Jonston N. Constitutionalism: Procedural Limits and Political Ends // Constitutional Policy and Change in Europe. - N.-Y.: Oxford University Press, 1995. - P. 56-57.
[187] Розанов В. Уединенное. Т. 2. - М.: Правда, 1990. - С. 33.
[188] Ионин Л. Политика как профессия. - Новое время, 1989, № 8. - С. 26.
[189] Murray E. The Symbolic Uses of Politics. - Chicago: University of Illinois Press, 1985. - P. 202.
[190] Штерн В. Персоналистическая психология // История зарубежной психологии (30-60-е годы ХХ в.). Тексты. - М.: Изд-во МГУ, 1986. - С. 193.
[191] Гарднер Д. К самообновляющемуся обществу. - Америка, 1971, май. - С. 49.
[192] Джордж Ф. После 1984. Перспективы лучшего мира // Новая технократическая волна на Западе. - М.: Прогресс, 1986. - С. 358.
[193]Беме Г., Даале В., Крон В. Сциентификация техники // Философия техники в ФРГ. - М.: Прогресс, 1989. - С. 121.
[194] Маринович М. Україна на полях святого письма. - Дрогобич: 1991. - С. 99.
[195] Что такое демократия. - USA: Изд-во Информационного агентства США, 1991. - С. 18.
[196] Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. - М.: Прогресс, 1986. - С. 142.
[197] Rawls J. A Theory of Justice. - N.-Y.: Oxford University Press, 1973. - P. 60.
[198] Bryce J. Modern Democracies. Vol. 1. - London: Macmillan, 1921. - P. 67.
[199] Malinowski B. Freedom and Civilization. - London: George Allen, 1947. - P. 15.
[200] Arendt H. Freedom and Politics // Liberty. - N.-Y.: Oxford University Press, 1991. - P. 58.
[201] Sartori G. Democratic Theory. - Westport: Greenwood Press, 1973. - P. 286.
[202] Синявский А. Диссидентство как личный опыт. - Литературная газета, 1997, 5 мая. - С. 3.
[203] Ferguson A. An Essay on the History of Civil Society. - Edinburgh: Duncan Forbes, 1966. - P. 270.
[204] Huntington S. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. - USA: University of Oklahoma Press, 1991. - P. XI.
[205] Литторин С.-О. Крушение социалистического мифа. - Москва-Минск: Полифакт, 1991. - С. 74.
[206] Рассел Б. История западной философии. Ч. 2. - М.: Миф, 1993. - С. 220.
[207] Франклин В. Избранные произведения. - М.: Государственное изд-во политической литературы, 1956. - С. 104.
[208] Чичерин Б. О народном представительстве. - М.: 1899. - С. 49-50.
[209] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. - С. 55.
[210] Бергер П. Капиталистическая революция. - М.: Прогресс, 1994. - С. 102.
[211] Dewey J. The Essential Writings. - N.-Y.: Harper Torchbooks, 1977. - P. 227.
[212] Hayek F. Law, Legislation and Liberty. Vol. 3. - Chicago: University of Chicago Press, 1979. - P. 129.
[213] Hayek F. The Constitution of Liberty. - Chicago: University of Chicago Press, 1960. - P. 6.
[214] National Standards for Civics and Government. - USA: Center for Civic Education, 1994. - P. 58.
[215] Malinowsky B. Freedom and Civilization. - London: George Allen, 1947. - P. 214, 25,29,74.
[216] Hayek F. Law, Legislation and Liberty. Vol. 3. - Chicago: University of Chicago Press, 1979. - P. 163.
[217] Бродский И. В мире изящной словесности. - Америка, 1992, май, № 426. - С. 37.
[218] Boas F. Liberty Among Primitive People // Liberty, Its Meaning. - London: George Allen, 1942. - P. 55.
[219] Berlin I. Two Concepts of Liberty // Liberty. - N.-Y.: Oxford University Press, 1991. - P. 34.
[220] Einstein A. Freedom and Science // Freedom, Its Meaning. - London: George Allen, 1942. - P. 92.
[221] Green D. Reinventing Civil Society. London: IEA Unit, 1993. - P. 7.
[222] Kommers R., Thompson W. Fundamentals in Liberal Constitutional Tradition // Constitutional Policy and Change in Europe. - N.-Y.: Oxford University Press, 1995. - P. 36, 37.
[223] Rawlz J. The Theory of Justice. - N.-Y.: Oxford University Press, 1973. - P. 3-4.
[224] Novak M. The Spirit of Democratic Capitalism. - London: IEA Unit, 1991. - P. 14.
[225] Revel J.-F. Democracy Against Itself. - USA: Free Press, 1993. - P. 156.
[226] Д.Талмнон писал, что свобода означает практическое решение инициировать что-либо спонтанно. - Talmon J. Political Messianism. - London: Secker and Warburg, 1960. - P. 180.
[227] Фромм Э., Хирау Р. Предисловие к антологии. Природа человека // Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. - М.: Прогресс, 1990. - С. 154.
[228] Мир философии. Ч. 2. - М.: Политиздат, 1991. - С. 183.
[229] Кудрявцев В. Правовые грани свободы. - Советское государство и право, 1989, № 11. - С. 3.
[230] Мир философии. Ч. 2. - М.: Политиздат, 1991. - С. 237.
[231] Там же. - С. 175.
[232] Локк Д. Сочинения. В 3-х т. Т. 3. - М.: Мысль, 1988. - С. 292.
[233] Там же. - С. 275.
[234] Там же. - С. 349.
[235] Там же. - С. 290.
[236] Ясперс К. Цель - свобода. - Новое время, 1990, № 5. - С. 36.
[237] Бердяев Н. Русская идея // О России и русской философской культуре. - М.: Наука, 1990. - С. 179.
[238] Монтескье Ш. Избранные произведения. - М.: Госполитиздат, 1955. - С. 288-289.
[239] Декларация прав человека и гражданина 1789 г. История и современность. - Советское государство и право, 1989, № 7. - С. 46.
[240] Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М.: Политиздат, 1991. - С. 263.
[241] Рейган Р. Свобода, прогресс и мир. - Международная жизнь, 1988, № 11. - С. 12.
[242] История буржуазного конституционализма XYII-XYIII в. - М.: Наука, 1983. - С. 223.
[243] Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 7. - С. 134-135.
[244] Честертон Г. Писатель в газете. - М.: Прогресс, 1984. - С. 144.
[245] Хауард Д. Два века конституционного правления. - Америка, 1987, январь, № 362. - С. 6.
[246] Мушинский В. Личность и политическая культура. - Советское государство и право, 1989, № 4. - С. 45.
[247] Rawls J. A Theory of Justice. - N.-Y.: Oxford University Press, 1973. - P. 202.
[248] Malinowski B. Freedom and Civilization. - London: George Allen, 1947. - P. 170.
[249] Мизес Л.фон. Антикапиталистическая ментальность. - N.-Y.: Телекс, 1992. - С. 3.
[250] Буш Д. Україна - США: новий етап партнерства. - Радянська Україна‚ 1991‚ 3 серпня. - С. 3.
[251] Рейган Р. Жизнь по-американски. - М.: Новости, 1992. - С. 723-724; Рейган Р. Откровенно говоря. - М.: Новости, 1990. - С. 353, 373, 394; Рейган Р. Выступление в МГУ. - USA: Изд-во Информационного агентства США, 1988. - С. 6.
[252] Riesman D. TheLonely Crowd. - N.-Y.: Dubleday Anchour Books, 1953. - P 309.
[253] Локк Д. Сочинения. В 3-х т. Т. 3. - М.: Мысль, 1988. - С. 331.
[254] Там же. - С. 274.
[255] Там же. - С. 263.
[256] Данем Б. Герои и еретики. - М.: Прогресс, 1967. - С. 37.
[257] Гумбольдт В.фон. Язык и философия культуры. - М.: Прогресс, 1985. - С. 34.
[258] Кант И. Сочинения. В 6 т. Т. 4, Ч. 1. - М.: Мысль, 1965. - С. 166.
[259] Мир философии. Ч. 2. - М.: Политиздат, 1991. - С. 217-218.
[260] Hayek F. The Constitution of Liberty. - Chicago: University of Chicago Press, 1960. - P. 394.
[261] Стрельцова Г. Барокко и классицизм - XYII в. // Человек: мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. - М.: Политиздат, 1991. - С. 281.
[262] Hayek F. Constitution of Liberty. - Chicago: University of Chicago Press, 1960. - P. 54.
[263] Кропоткин П. Хлеб и воля. Современная наука и анархия. - М.: Правда, 1990. - С. 388.
[264] Fukuyama F. The End of History and the Last Man. - N.-Y.: Free Press, 1992. - P. 152.
[265] Мориак Ф. Жизнь Иисуса. - М.: Мир, 1991. - С. 186.
[266] Гегель Г.В.Ф. Философия права. - М.: Мысль, 1990. - С. 168.
[267] Мизес Л.фон. Антикапиталистическая ментальность. - N.-Y.: Телекс, 1992. - С. 59.
[268] Гегель Г.В.Ф. Философия права. - М.: Мысль, 1990. - С. 243.
[269] Там же. - С. 289.
[270] Кон Г. Азбука национализма. - Проблемы Восточной Европы, 1989, № 25-26. - С. 250-251.
[271] Кант И. Сочинения. В 6 т. Т. 3. - М.: Мысль, 1964. - С. 617.
[272] Ламетри Ж. Сочинения. - М.: Мысль, 1983. - С. 334.
[273] Богданов А. Всеобщая организационная наука (Тектология). - Л.-М.: Книга, 1925. - С. 226.
[274] Hayek F. The Constitution of Liberty. - Chicago: University of Chicago Press, 1960. - P. 394.
[275] Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. - С. 164.
[276] Hayek F. Constitution of Liberty. - Chicago: University of Chicago Press, 1960. - P. 37.
[277] Мир философии. Ч. 2. - М.: Политиздат, 1991. - С. 439.
[278] Einstein A. Out of My Later Years. - London: Thames and Hudson, 1950. - P. 19.
[279] Tocqueville A. de Democracy in America. Vol. 1. - N.-Y.: Arlington House, P. 239.
[280] Сахаров А. Мир, прогресс, права человека. Нобелевская лекция. - Огонек, 1989, № 8. - С. 30.
[281] Рейган Р. Свобода, прогресс и мир. - Международная жизнь, 1988, № 11. - С. 10.
[282] Валенса Л. Гибкий человек из железа. - Новое время, 1989, № 7. - С. 30.
[283] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 34. - С. 349-351.
[284] Локк Д. Сочинения. В 3-х т. Т. 3. - М.: Мысль, 1988. - С. 286.
[285] Huntington S. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. - USA: University of Oklahoma Press, 1991. - P. 29.
[286] Костиков В. Блеск и нищета номенклатуры. - Огонек, 1989, № 1. - С. 14.
[287] Hayek F. The Constitution of Liberty. - Chicago: University of Chicago Press, 1960. - P. 109.
[288] Эрхард Л. Благосостояние для всех. - USA: Посев, 1990. - С. 236.
[289] Липсет С. Третьего не дано. - Проблемы Восточной Европы, 1991, № 33-34. - С. 93.
[290] Rawls J. The Theory of Justice. - N.-Y.: Oxford University Press, 1973. - P. 151-152.
[291] Литторин С.-О. Крушение социалистического мифа. - Москва-Минск: Полифакт, 1991. - С. 56.
[292] Райх Р. Национальная проблема. - Проблемы Восточной Европы, 1991, № 33-34. - С. 178.
[293] Сен-Симон А. Избранные сочинения. Т. 2. - М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1948. - С. 332.
[294] Тарковский А. Красота - символ правды. - Литературная газета, 1987, 8 апреля. - С. 8.
[295] Анчел Е. Этос и история. - М.: Мысль, 1988. - С. 21.
[296] Питерс Т., Уотерман Р. В поисках эффективного управления. - М.: Прогресс, 1986. - С. 33.
[297] Лотман Ю. Культура и взрыв. - М.: Прогресс, 1992. - С. 55.
[298] Russell B. Authority and the Individual. - N.-Y.: Simon and Shuster, 1949. - P. 25.
[299] Rawls J. A Theory of Justice. - N.-Y.: Oxford University Press, 1973. - P. 199.
[300] Новгородцев П. Об общественном идеале. - М.: Правда, 1991. - С. 546.
[301] Франк С. Сочинения. - М.: Правда, 1990. - С. 338.
[302] Джойс Д. Улисс. - М.: Республика, 1993. - С. 362.
[303] Розанов В. Уединенное. Т. 2. - М.: Правда, 1990. - С. 590.
[304] Рассел Б. История западной философии. Ч. 2. - М.: Миф, 1993. - М. 290.
[305] Мир философии. Ч. 2. - М.: Политиздат, 1991. - С. 245.
[306] Дезами Т. Кодекс общности. - М.: Изд-во АН СССР, 1956. - С. 262.
[307] Гавел В. Искушение // Трудно сосредоточиться. - М.: Художественная литература, 1990. - С. 346.
[308] Штейн Г. Джон Дьюи. - Перспективы UNESCO, 1986, № 4. - С. 134.
[309] Спорные предвидения Б.Ф.Скиннера. - Америка, 1972, декабрь. - С. 3.
[310] Полан Ж. О счастье в рабстве // Холландер К. Мадам. - Минск: Дайджест, 1992. - С. 235.
[311] Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М.: Политиздат, 1991. - С. 417.
[312] Возняк М. Українська державність. - Відень: 1918. - С. 98.
[313] Міхновський М. Самостійна Україна. - Український патріот‚ 1948. - С.18.
[314] Milosz C. Visions from San-Fracisco Bay. - N.-Y.: Farrar Straus Giroux, 1983. - P. 104.
[315] Gottfried P. The Conservative Movement. - N.-Y.: Twayne Publishers, 1993. - P. 24.
[316] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. - С. 59-60.
[317] Dahl R. Dilemmas of Pluralist Democracy. - London: Yale University Press, 1982. - P. 20.
[318] Кедров К. Парад уходящих планет. - Известия, 1991, 8 февраля. - С. 5.
[319] Мілош Ч. Поневолений розум. - Мюнхен: Сучасність‚ 1985. - С. 40-41.
[320] Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. - М.: Новости, 1992. - С. 205.
[321] Гегель Г.В.Ф. Философия права. - М.: Мысль, 1990. - С. 387.
[322] Там же. - С. 105.
[323] Там же. - С. 463.
[324] Почта недели. - Советская культура, 1989, 31 января. - С. 1.
[325] Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. - М.: Новости, 1992. - С. 110-111.
[326] Маркиз де Кюстин. Николаевская Россия. - М.: Терра, 1990. - С. 182.
[327] Леви Л. Что такое демократия. - USA: Изд-во Информационного агентства США, 1991. - С. 8.
[328] Berlin I. Four Essays on Liberty. - N.-Y.: Oxford University Press, 1986. - P. 122.
[329] Гумбольдт В.фон. Язык и философия культуры. - М.: Прогресс, 1985. - С. 50.
[330] Гумбольдт В.фон. Язык и философия культуры. - М.: Прогресс, 1985. - С. 26-27.
[331] Дайсон Ф. Оружие и надежда. - М.: Прогресс, 1990. - С. 58.
[332] Монітор Свободи, № 2(4), 1998. - С. 24.
[333] Havel V. Open Letters. - N.-Y.: Vintage Books, 1992. - P. 228.
[334] Дойч К. Основные изменения в политологии // Политические отношения: прогнозирование и планирование. - М.: Наука, 1979. - С. 89.
[335] Гумбольдт В.фон. Язык и философия культуры. - М.: Прогресс, 1985. - С. 30.
[336] Dahl R. Dilemmas of Pluralist Democracy. - London: Yale University Press, 1982. - P. 37.
[337] Бжезинский З. Большой провал. - N.-Y.: Liberty Publishing House, 1989. - C. 21.
[338] Toffler A. The Third Wave. - N.-Y.: Bantam Books, 1994. - P. 251, 255.
[339] Юркевич П. Философские произведения. - М.: Правда, 1990. - С. 139-140.
[340] Чаадаев П. Сочинения. - М.: Правда, 1989. - С. 88.
[341] Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. - М.: Наука, 1992. - С. 26-27.
[342] Russell B. Authority and the Individual. - N.-Y.: Simon and Shuster, 1949. - P. 34.
[343] Малютин М. Неформалы в перестройке: опыт и перспективы // Иного не дано. - М.: Прогресс, 1988. - С. 226.
[344] Фостер Э. Похвальное слово терпимости. - Литературная газета, 1997, 23 июля. - С. 13.
[345] Fukuyama F. The End of the History and the Last Man. - N.-Y.: Free Press, 1992. - P. 305.
[346] Dahl R. Dilemmas of Pluralist Democracy. - London: Yale University Press, 1982. - P. 153.
[347] Riesman D. The Lonely Crowd. - N.-Y.: Dubleday Anchour Books, 1953. - P. 297.
[348] Солженицын А. Нобелевская лекция. - Новый мир, 1989, № 7. - С. 141.
[349] Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М.: Политиздат, 1991. - С. 224.
[350] Фостер Э. Похвальное слово терпимости. - Литературная газета, 1997, 23 июля. - С. 13.
[351] Бовуар С. де. Друга стать. Т. 2. - Київ: Основи‚ 1995. - С. 42.
[352] Adorno T. The Authoritarian Personality. - N.-Y.: Harper and Brothers, 1950. - P. 976.
[353] Розанов В. Уединенное. Т. 2. - М.: Правда, 1990. - С. 27.
[354] Мережковский Д. Больная Россия. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. - С. 153.
[355] Маркузе Г. Одномерный человек. - М.: REFL-book, 1994. - С. 209.
[356] Гадамер Х.-Г. Телевидение породит новых рабов. - Литературная газета, 1997, 23 июля. - С. 7.
[357] Аристотель. Сочинения. В 4-х т. Т. 4. - М.: Мысль, 1983. - С. 553.
[358] Богораз Л., Даниэль А. В поисках несуществующей науки. - Проблемы Восточной Европы, 1993, № 37-38. - С. 147, 148.
[359] Маркузе Г. Одномерный человек. - М.: REFL-book, 1994. - С. 75-76.
[360] Арто А. Театр и его двойник. - М.: Мартис, 1993. - С. 23.
[361] Riesman D. The Lonely Crowd. - N.-Y.: Dubleday Anchour Books, 1953. - P. 278.
[362] Rawls J. Political Liberalism. - N.-Y.: Columbia University Press, 1993. - P. 42.
[363] Использованы тексты конституций, опубликованные в следующих источниках: Конституции буржуазных государств. - М.: Юридическая литература, 1982; Конституції нових держав Європи та Азії. - Київ: УПФ, 1996; Новые конституции стран СНГ и Балтии. - М.: Манускрипт, 1994.
[364] Nowa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa: Liber, 1997. - P. 3.
[365] Конституции буржуазных государств. - М.: Юридическая литература, 1982. - С. 32.
[366] Dewey D. The Essential Writings. - N.-Y.: Harper Torchbooks, 1977. - P. 61.
[367] Novak M. The Spirit of Democratic Capitalism. - London: IEA Unit, 1991. - P. 183.
[368] Easton D. A Systems Analysis of Political Life. - Chicago: University of Chicago Press, 1965. - P. 367.
[369] Эбенстайн В. Государь, государство, общество. - Знание-сила, 1990, № 9. - С. 70.
[370] Toffler A. The Third Wave. - N.-Y.: Bantam Books, 1994. - P. 441.
[371] Там же.
[372] Revel J.-F. Democracy Against Itself. - USA: Free Press, 1993. - P. 167.
[373] Донцов Д. Клич доби. - Лондон: Вид-во Союзу українців у Великій Британії‚ 1968. - С. 128.
[374] Камю А. Бунтующий человек. - М.: Политиздат, 1990. - С. 178.
[375] Вайнцвайг П. Десять заповедей творческой личности. - М.: Прогресс, 1990. - С. 36.
[376] Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. - М.: Новости, 1992. - С. 212.
[377] Каныгин Ю. Основы когнитивного обществознания. - Киев: 1993. - С. 208.
[378] Там же. - С. 33.
[379] Там же. - С. 167.
[380] Malinowsky B. Freedom and Civilization. - London: George Allen, 1947. - P. 94.
[381] Белл Д. Социальные рамки информационного общества // Новая технократическая волна на Западе. - М.: Прогресс, 1986. - С. 335.
[382] Gray J. Post-Liberalism. - London: Routledge, 1996. - P. 9.
[383] Лосев С. Практическими делами углублять перестройку. - Известия, 1987, 16 июля. - С. 2.
[384] Назаров А. К понятию организованности ноосферы // Кибернетика и ноосфера. - М.: Наука, 1986. - С. 47.
[385] Зиновьев А. Зияющие высоты. Т.1. - М.: Изд-во ПИК, 1990. - С. 231.
[386] Від головної редакції. - Кур'єр ЮНЕСКО‚ 1990‚ листопад. - С. 11.
[387] Brzezinski Z. Out of Control. - USA: 1993. - P. 75.
[388] Tocqueville A. Democracy in America. Vol. 1. - N.-Y.: Arlington House. - P. 200.
[389] Юнг К. Воспоминания, сновидения, размышления. - Киев: Air-Land, 1994. - С. 138.
[390] Смирнов К. Лошадиные силы для компьютера. - Известия, 1990, 23 января. - С. 3.
[391] Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє. - Київ: Основи‚ 1993. - С. 55.
[392] Шлемкевич М. Загублена українська людина. - N.-Y.: 1954. - C. 107-108.
[393] Каныгин Ю. Основы когнитивного обществоведения. - Киев: 1993. - С. 18.
[394] Rawls J. A Theory of Justice. - N.-Y.: Oxford University Press, 1973. - P. 449.
[395] Каныгин Ю. Основы когнитивного обществоведения. - Киев: 1993. - С. 6-7.
[396] Там же. - С. 117-118.
[397] Фромм Э. Душа человека. - М.: Республика, 1992. - С. 364.
[398] Ламетри Ж. Сочинения. - М.: Мысль, 1983. - С. 301.
[399] Фейербах Л. Собрание произведений. В 3-х т. Т.2. - М.: Мысль, 1974. - С. 26.
[400] Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. - М.: Наука, 1989. - С. 129.
[401] Благош Й. Формы правления и права человека в буржуазных государствах. - М.: Юридическая литература, 1985. - С. 41.
[402] Schumpeter J. Capitalism, Socialism and Democracy. - London: George Allen, 1976. - P. 147.
[403] Шеварднадзе Э. Масштаб ответственности. - Известия, 1989, 23 марта. - С. 5.
[404] Олкер Х. Волшебные сказки, трагедии и способы изложения мировой истории // Язык и моделирование социального взаимодействия. - М.: Прогресс, 1987. - С. 434.
[405] Моль А. Социодинамика культуры. - М.: Прогресс, 1973. - С. 132.
[406] Капустин В., Кухаренко Б. Базы данных и системы знаний - симптом ноосферы // Кибернетика и ноосфера. - М.: Наука, 1986. - С. 92.
[407] Амосов Н. Реальности, идеалы и модели. - Литературная газета, 1988, 5 октября. - С. 13.
[408] Вернадский В. Философские мысли натуралиста. - М.: Наука, 1988. - С. 27.
[409] Честертон Г. Вечный человек. - М.: Политиздат, 1991. - С. 305.
[410] Фрейд З. О психоанализе. - М.: Наука, 1912. - С. 60.
[411] Донцов Д. Книга доби. - Лондон: Вид-во Союзу українців у Великій Британії‚ 1968. - С. 115.
[412] Донцов Д. Націоналізм // Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. Т. 2. - Мюнхен: Сучасність‚ 1983. - С. 125.
[413] Франко І. Поза межами можливого // Вивід прав України. - Львів: Слово‚ 1991. - С. 77.
[414] Дві концепції української політичної думки: В.Липінський - Д.Донцов. - USA: Вид-во УККА‚ 1990. - С. 173.
[415] Эрхард Л. Благосостояние для всех. - USA: Посев, 1990. - С. 212.
[416] Гари Р. Избранное. - М.: Полярис, 1994. - С. 23.
[417] Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 2. - М.: Феникс, 1992. - С. 128.
[418] Фукуяма Ф. Конец истории? - Вопросы философии, 1990, № 3. - С. 137, 139.
[419] Там же.
[420] Гадамер Х.-Г. Истина и метод. - М.: Прогресс, 1988. - С. 634.
[421] Spencer H. The Man Versus the State. - USA: Indianapolis, 1981. - P. 100.
[422] Мизес Л.фон. Антикапиталистическая ментальность. - N.-Y.: Телекс, 1992. - С. 80.
[423] Mosca G. The Ruling Class. - USA: Greenwood Press, 1980. - P. 187.
[424] Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. - М.: 1956. - С. 257.
[425] Dewey J. The Essential Writings. - USA: Harper Torchbooks, 1977. - P. 75.
[426] Кант И. Сочинения. В 6 т. Т. 3. - М.: Мысль, 1964. - С. 656.
[427] Лисяк-Рудницький І. Між історією й політикою. - Мюнхен: Сучасність‚ 1973. - С. 279.
[428] См.: Джилас М. Лицо тоталитаризма. - М.: Новости, 1992; Лифшиц М. Джамбаттиста Вико // Вико Д. Основания новой науки об общей природе наций. - Москва-Киев: REFL-book, 1994. - С. YII.
[429] Хайдеггер М. Основные понятия метафизики. - Вопросы философии, 1989, № 9. - С. 144.
[430] Easton D. A System Analysis of Political Life. - Chicago: University of Chicago Press, 1965. - P. 43. Д.Истон развивает свое определение, добавляя, что идеология может быть описана как широкий спектр требований, предполагающих авторитарные решения с целью достижения идеалов, уже инкорпорированных в идеологию. - Там же. - С. 44.
[431] Джонстон Р. География и географы. - М.: Прогресс, 1987. - С. 298.
[432] Янков М. Конструктивная критика и рациональное управление. - М.: Прогресс, 1987. - С. 185.
[433] Скуратов Ю. О конституционном содержании некоторых политических категорий. - Правоведение, 1986, № 1. - С. 22-30.
[434] Грант Д. Философия, культура, технология: перспективы на будущее // Новая технократическая волна на Западе. - М.: Прогресс, 1986. - С. 158-159.
[435] Баллок А. Гении зла. - За рубежом, 1992, № 12. - С. 17.
[436] Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М.: Политиздат, 1991. - С. 146.
[437] Гавел В. Сила бессильных. - Новое время, 1991, № 16. - С. 41.
[438] Бердяев Н. Русская идея // О России и русской философской культуре. - М.: Наука, 1990. - С. 177.
[439] Bell D. The End of Ideology. - USA: Free Press, 1960. - P. 370.
[440] Вятр Е. Социология политических отношений. - М.: Прогресс, 1979. - С. 401.
[441] Кан Г. Грядущий подъем: экономический, политический, социальный // Новая технократическая волна на Западе. - М.: Прогресс, 1986. - С. 187.
[442] Сорокин П. Голод и идеология общества // Квинтэссенция. - М.: Политиздат, 1990. - С. 376.
[443] Чивилихин В. Память. - Наш современник, 1983, № 6. - С. 61.
[444] Розанов В. Религия и культура. Т. 1. - М.: Правда, 1990. - С. 563.
[445] Wallas G. Human Nature in Politics. - London: Constable and Company, 1910. - P. 140.
[446] Баткин Л. Возобновление истории // Иного не дано. - М.: Прогресс, 1988. - С. 157.
[447] Бурдье П. Социология политики. - М.: Socio-Logos, 1993. - С. 72.
[448] Там же. - С. 206.
[449] Бакунин М. Философия, социология, политика. - М.: Правда, 1989. - С. 433-434.
[450] Марсель Г. Быть и иметь. - Новочеркасск: Сагуна, 1994. - С. 145. В этом контексте интересна мысль Г.Валлеса о том, что в политике предпочтение разума чувствам особенно неэффективно, так как чувства не только мотивируют политическую мысль, но также фиксируют масштаб ценностей, используемых в политическом дискурсе. - Wallas G. Human Nature in Politics. - London: Constable and Company, 1910. - P. 188.
[451] Dewey J. Freedom and Culture. - N.-Y.: Capricorn Books, 1963. - P. 172.
[452] Бжезинский З. Окончилась ли холодная война? - Международная жизнь, 1989, № 10. - С. 35.
[453] Анализируя практику Верховного Суда США, Р.Дворкин упоминает "четыре существенных свободы" американских университетов: а) свободу определять академические основы обучения; б) свободу выбирать преподавателей; в) свободу методики обучения; г) свободу выбора обучающихся. - Dworkin R. A Matter of Principle. - USA: Harvard University Press, 1985. - P. 313.
[454] Гоббс Т. Левиафан. - М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1936. - С. 150.
[455] Локк Д. Сочинения. В 3-х т. Т. 3. - М.: Мысль, 1988. - С. 72.
[456] Миллер А. Борьба за правду должна быть защищена законом. - Известия, 1992, 26 июня. - С. 7.
[457] Маринович М. Україна: дорога через пустелю. - Харків: Фоліо‚ 1993. - С. 83.
[458] Характерны следующие места из произведений В.И.Ленина: Полн. собр. соч.: Т. 8. - С. 442; Т. 9. - С. 4-6; Т. 9. - С. 10; Т. 10. - С. 355; Т. 15. - С. 73; Т. 15. - С. 297; Т. 16. - С. 164-165; Т. 32. - С. 388; Т. 34. - С. 213; Т. 39. - С. 117.
[459] Фурман Д. Наш путь к нормальной культуре // Иного не дано. - М.: Прогресс, 1988. - С. 572.
[460] Бадентер Р. Пятый человек в пятой республике. - Аргументы и факты, 1989, № 47. - С. 7.
[461] Шпет Г. Сочинения. - М.: Правда, 1989. - С. 282.
[462] Адорно Т. Разумно ли действительное? - Новое время, 1989, № 46. - С. 34.
[463] Салтыков-Щедрин М. До боли сердечной... - Известия, 1989, 10 мая. - С. 4.
[464] Эрхард Л. Благосостояние для всех. - USA: Посев, 1990. - С. 277.
[465] Болинджер Д. История - проблема лингвистическая // Язык и моделирование социального взаимодействия. - М.: Прогресс, 1987. - С. 27.
[466] Гельвеций К.-А. Сочинения. В 2-х т. Т. 2. - М.: Мысль, 1974. - С. 137.
[467] Гольбах П.-А. Избранные произведения. В 2-х т. Т. 2. - М.: Мысль, 1963. - С. 248.
[468] Блакар Р. Язык как инструмент социальной власти // Язык и моделирование социального взаимодействия. - М.: Прогресс, 1987. - С. 105.
[469] Клод А. Возможности языка. - Курьер ЮНЕСКО, 1986, апрель. - С. 24.
[470] Шимечка М. Мой товарищ Уинстон Смит. - Проблемы Восточной Европы, 1989, № 27-28. - С. 251.
[471] Оболонский А. Бюрократическая деформация сознания и борьба с бюрократизмом. - Советское государство и право, 1987, № 1. - С. 56.
[472] Гилберт Д., Малкей М. Открывая ящик Пандоры: социологический анализ высказываний ученых. - М.: Прогресс, 1987. - С. 29.
[473] Селье Г. От мечты к открытию: как стать ученым. - М.: Прогресс, 1987. - С. 149.
[474] Мелье Ж. Завещание. Т. 3. - М.: Изд-во АН СССР, 1954. - С. 338.
[475] Schumpeter J. Capitalism, Socialism and Democracy. London: George Allen, 1976. - P. 271.
[476] Ламетри Ж. Сочинения. - М.: Мысль, 1983. - С. 304, 320.
[477] Tocqueville A. Democracy in America. Vol. 1. - N.-Y.: Arlington House. - P. 168-169, 169, 170, 171.
[478] Баткин Л. Возобновление истории // Иного не дано. - М.: Прогресс, 1988. - С. 163.
[479] Феофанов Ю. Граждане и власти. - Известия, 1989, 1 ноября.
[480] Уэбстер Д. Создание свободных и независимых средств массовой информации // Материалы о свободе. - USA: Изд-во USIA, 1998. - Р. 3.
[481] Солженицын А. Нобелевская лекция. - Новый мир, 1989, № 7. - С. 142.
[482] Голдберг С. Доступність інформації для громадськості // Доповідь про свободу № 6. - USA: Вид-во USIA, Regional Program Office, 1998. - P. 5.
[483] Вернадский В. Философские мысли натуралиста. - М.: Наука, 1988. - С. 104.
[484] Джилас М. Лицо тоталитаризма. - М.: Новости, 1992. - С. 288.
[485] Прайс Д. Наука, техника и Конституция. - Америка, 1987, № 370 (сентябрь). - С. 5.
[486] Менерт К. О русских сегодня. Что они читают, каковы они. - Иностранная литература, 1987, № 11. - С. 181.
[487] Salteris S. Tales of Northern Athens. - Moscow News, 1990, № 43. - P. 16.
[488] Тойнби А. Постижение истории. - М.: Прогресс, 1991. - С. 605.
[489] Капп И. О причинах насилия в США. - Америка, 1972, январь. - С. 15.
[490] Гадамер Х.-Г. Истина и метод. - М.: Прогресс, 1988. - С. 442.
[491] Гроф С. Целительные возможности необычных состояний сознания // Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. - М.: Прогресс, 1990. - С. 455-467.
[492] Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. - М.: Высшая школа, 1991. - С. 146.
[493] Хайдеггер М. Что такое метафизика // Новая технократическая волна на Западе. - М.: Прогресс, 1986. - С. 40-41.
[494] Юркевич П. Философские произведения. - М.: Правда, 1990. - С. 182.
[495] Лакофф Д., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Язык и моделирование социального взаимодействия. - М.: Прогресс, 1987. - С. 148.
[496] Вебер М. Избранные произведения. - М.: Прогресс, 1990. - С. 397.
[497] Bierce A. Tales and Fables. - M.: Прогресс, 1982. - Р. 461.
[498] Марсель Г. Быть и иметь. - Новочеркасск: Сагуна, 1994. - С. 24.
[499] Вайда А. Бесстрашие памяти. - Огонек, 1989, № 5. - С. 10.
[500] Вебер М. Избранные произведения. - М.: Прогресс, 1990. - С. 404.
[501] Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. - Вопросы философии, 1989, № 5. - С. 127-128.
[502] Берберова Н. Железная женщина. - М.: Книжная палата, 1991. - С. 300.
[503] Бакунин М. Философия, социология, политика. - М.: Правда, 1989. - С. 435.
[504] Сорокин П. Проблема социального равенства и социализм. - Коммунист, 1990, № 12. - С. 79.
[505] Корнуэлл Д. Козни дьявола или буйство фантазии. - За рубежом, 1992, № 11. - С. 15.
[506] Revel J.-F. Democracy Against Itself. - USA: Free Press, 1993. - P. 91-92.
[507] Гумбольдт В.фон. Язык и философия культуры. - М.: Прогресс, 1985. - С. 74, 76.
[508] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 7. - С. 280.
[509] Грин Г. Путешествие без карты. - М.: Прогресс, 1989. - С. 224.
[510] Конституции буржуазных государств. - М.: Юридическая литература, 1982. - С. 130.
[511] Конституції нових держав Європи та Азії. - Київ: УПФ, 1996. - С. 337.
[512] Там же. - С. 199. В американской конституционной теории, писал Д.Ролз, отсутствие такого преступления как мятежная клевета на правительство оценивается как прагматический тест свободы слова (см.: Rawls J. Political Liberalism. - N.-Y.: Columbia University Press, 1993. - P. 342, 347.
[513] Новые конституции стран СНГ и Балтии. - М.: Манускрипт, 1994. - С. 441.
[514] Конституции буржуазных государств. - М.: Юридическая литература, 1982. - С. 177.
[515] Конституції нових держав Європи та Азії. - Київ: УПФ, 1996. - С. 347.






 ВСІ ТЕМИ
ВСІ ТЕМИ