
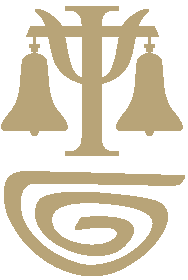
ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ. Випуск 7. ТОЧКА ЗОРУ. ЦИФРИ І ФАКТИ.
Інформаційно-аналітичний бюлетень
Українсько-Американського
Бюро захисту прав людини
Квітень
Київ – Харків
1994
Редакційна колегія
Зіновій АНТ0НЮК(заст. гол. редактора)
Наталія БЄЛІЦЕР
Семен ГЛУЗМАН
Євген ГОЛОВАХА
Володимир ЖМИР
Євген ЗАХАРОВ (гол. редактор)
Віталій КРЮКОВ
Мирослав МАРИНОВИЧ
Леонід ФІНБЕРГ
Бюлетень верстається на комп’ютерах, наданих міжнародним фондом «Відродження» і видається при підтримці американської правозахисної організації «Union of Councils» та харківського видавництва «Фоліо».
ТОЧКА ЗОРУ
ЦИФРИ І ФАКТИ
Кількість місць ув’язнення в Україні:
1. СІЗО –ЗО
2. Тюрми – 3 (у Вінниці, Житомирі, Івано-Франківську)
3. Колонії– 117
З них:
суворого режиму – 42
посиленого режиму – 21
особливого режиму – 8
колоній-поселень – 22
загального режиму:
чоловічих – 14
жіночіх – 6
Лікувальних закладів – 4
4. Виховно-трудові заклади – 11
Кількість ув’язнених в Україні:
1. В СІЗО – 38.949 (в тому числі в тюрмах)
2. В колоніях– 121.899
З них:
суворого режиму – 50.010
посиленого режиму – 30.762
особливого режиму – 6.555
колоніях-поселеннях – 6.696
загального режиму:
чоловіків – 18 938
жінок –4.237
лікувальних закладах – 4.701
3. В дитячих виховно-трудових закладах – 3.134
Всього ув’язнених – 163.982
(з них повторно і більше – 87.075, або 53.1 %)
Кількість ув’язнених з активною формою туберкульозу
(без СІЗО) –3.200
Кількість хворих на туберкульоз в СІЗО – 400-500
За даними МВС на лютий 1994 року
1. Кількість кримінальних справ, розглянутих в Україні
У 1992 р.– 114457
У 1993 р.– 144288
2. Число засуджених осіб
У 1992 р.– 115269
У 1993 р.– 152878
3. Число виправданих осіб
У 1992 р.– 901
У 1993 р.– 756
4. Кількість справ, переглянутих у касаційній інстанції
У 1992 р.– 24256
У 1993 р.– 25518
5. Кількість справ, переглянутих у наглядній інстанції
У 1992 р.– 4075
У 1993 р.– 3504
6. Скасовано вироків щодо осіб у касаційному порядку
У 1992 р.– 2475
У 1993 р.– 2651
7. Скасовано вироків щодо осіб у порядку нагляду
У 1992 p. –1359
У 1993 р.– 1455
8. Число судів у районних судах
У 1992 р.– 3127
У 1993 р.– 3276
9. Число судів в обласних судах
У 1992 р.– 1145
У 1993 р.– 1156
10. Число адвокатів
У 1992 р. – 5840
У 1993 р.– 5825
За даними Мін’юсту на лютий 1994 року
КРЕСТЬЯНИН, СЫН КРЕСТЬЯНИНА
Письмо датчанке
Семен Глузман
Здравствуйте, милая Герда! Ваше доброе, тонкое письмо было для меня праздником. В снегу, в стуже, в концлагерной зиме моей Вы сумели преподнести мне самый изысканный и ценный подарок – человеческую память. Почти фантастика: диалог, пусть и краткий, между Данией, Европой 1976 года, и... противоестественным атавизмом «пермского периода»...
Господи! Как же это хорошо – жить; хотя, бы для того, чтобы получать такие письма! Для меня Вы – загадочная незнакомка. Ничего не знаю о Вас, мало – о Дании. А может, это Оле-Лукойе раскрыл надо мною зонтик со счастливыми снами? ...Увы, лагерь – не сон, а если и сон, то весьма нерадостный.
Несколько дней я хранил письмо, потом сжег – это также не сон. Я – слабый графолог, но поверьте, имей я возможность увидеть оригинал Вашего письма, воображение помогло бы мне представить Вас, услышать голос Ваш. Но где он, оригинал... письмо пришло ко мне отнюдь не почтой, а как Вы пожелали, иной дорогой, в переводе и записи моих друзей. Спасибо Вам, Герда, за мудрость Вашу. В одном Вы не правы; мы живем здесь не будущим. Не ожиданием грядущего счастья, грядущей воли. Мы живем здесь истиной. Добром, памятью о близких и всем тем, что Вы называете «концлагерным кошмаром». Да, наши будни можно назвать и так. Но я предпочитаю другой термин: рабочие будни. Истине надо служить, украденными у дня дневными часами, потаенными мыслями в бессонные минуты ночи, служить сопротивлением.
Жизнь не бессмысленна, когда сопротивление – работа, добровольный труд. А потом к этому привыкаешь, и кошмар исчезает. Вы задали мне много вопросов, слишком много. Здесь, в лагере, я не сумею ответить на них, для этого необходимо отстраниться от всего, что является сегодня моей жизнью. Увы, недоступная роскошь.
«Сидеть» – сегодня моя работа, как была раньше – лечить, и от «сидения» этого отстраниться я не могу. В нем мое «я». А мелочи, быт – их Вы знаете, пусть и не в полном объеме, из газет, радио... Стоит ли повторять то, что у Вас, в Дании, не является секретом.
Смысл Вашего письма – в памяти, так я его понял. Не знаю, почему Вы выбрали именно меня... Я увидел в Вашем письме память о том, что мир сегодня несовершенен, и Добро, которого не так уж много на Земле, распределено неравномерно. И мы здесь, как Вы пишете, «обделены им особенно». Не знаю, счастлив ли кто-нибудь из моих товарищей. Говорить о счастье в концлагере, думаю, кощунство. Пожалуй, счастья мы все-таки лишены (его нет в «перечне предметов, разрешенных к пользованию заключенными»), но одного не сумели лишить нас, несмотря на все параграфы, статьи и инструкции – индивидуальности. «Потерять себя» (так Вы пишете) действительно страшно; в наших условиях это означает потерять прошлое, друзей, мораль. Потерять Бога. И ничего не приобрести взамен, если не считать приобретением биологическое существование на весьма посредственном уровне, с ненавистью к людям, неверием в осмысленность таких понятий, как родина, любовь, справедливость... (И все же как хочется иногда самой ординарной человеческой пищи, обыкновенного хлеба...)
Я многого не знал раньше. Врач, психиатр, я работал с людьми, изучал их, лечил – и не знал их. Мое знание человека было книжным, книжной была вера в него. Работа психиатра – это и грязь. Сейчас я знаю: мир человеческий оказался грязнее, гнуснее. Но я не потерял веру в человека, я увидел рядом с собой действительную мудрость, действительную духовность, действительную чистоту, которые, я полагаю, не по силам Прометею.
Здесь, в аду, я встретил Сизифов, беспрестанно закатывающих на высоту свой тяжкий камень. Мудрых и стойких, как у Альбера Камю. Сизифа определяет не подвиг, а время после него. Когда появляется сознание недостижимости конкретной цели, сознание, что жертва была напрасной: мир остался прежним. Аффект, усилие, одержимость – все это доступно и Прометею. Здесь я увидел Сизифа, добровольно возвращающегося к своему камню. «Сегодня – мрак. И я вновь возвращаюсь за камнем, возвращаюсь, хотя за этим последует новый мрак. И никто не узнает о моем камне. Я жив; и закатываю камень. Конца этому нет». А рядом свет: сытость, тепло, возможно, любовь...
Я не философствую, Герда, я пытаюсь объяснить себе мужество человека, о котором буду писать. Хочу понять его основу.
Об этом не спросишь... Он – латыш. О себе рассказывает не очень охотно. Односложные ответы – все, что я смог получить от него. В этом и скромность, и плохое знание русского языка (а по-латышски не говорю я), но есть еще вместе прожитые годы за колючей проволокой, где не скроешь ни от кого ни минутной тоски, ни злобы, ни трусости. Три года я знаю Иварса Грабанса, молчаливого, немолодого человека, избегающего эффектных дел и эффектных слов, крестьянина, лютеранина, патриота.
Он родился на хуторе, где жили его деды, где узнал он о Боге, родине, справедливости. Ходил в школу, пас коров, учился уважать землю. Двадцать гектаров земли, согласитесь, не так уж много, если в семье твоей – отец, мать и трое братьев. Изо дня в день, из года в год приобщался он к священному ремеслу землепашца, которое, на мой взгляд, сродни деяниям Бога в Первую Неделю.
Можно читать газеты, знать об округлости Земли, по воскресеньям посещать церковь, но все же место, где лежат твои деды и где будешь когда-то лежать ты сам, где знаком наощупь каждый камень, где и ночью обойдешь без света любой куст и любую впадину, – это место не может быть просто «недвижимостью» или химической формулой кремнезема, глины и прочих субстанций. Если ты крестьянин, и день твой не мыслится без труда, то в отношении к земле есть и языческое. Это – твоя земля.
Любил ли Иварс свою землю? Не думаю. Любовь проявляется, когда думаешь о потере, разлуке. Она немыслима без ревности. Здесь, думаю, было иное. Земля, где ты вырос, где узнал солнце, слезы, ласку, должна ощущаться, как собственное тело. Земля для крестьянина, как и тело – его «я». Меняющаяся, как и тело, она воспринимается естественно, как и данные отцами Бог и язык. Ежегодные, извечно повторяющиеся ритуалы крестьянского труда, молитвы об урожае, дожде, мире делают твою жизнь такой же понятной и осмысленной, как и полуденный пот в августе, как отел в хлеву и свадьба старшего брата.
Он родился латышом в Латвии. Не знал другого языка, не представлял для себя другой жизни. Сын крестьянина, он видел свое будущее так же, как и большинство крестьянских парней в Латвии (да и где угодно), – в трудах и в семье. Бог – не абстракция молитв и воскресных проповедей, он в примере жизни отца и матери, в размеренном укладе семьи, в понятной морали труженика и гражданина. А Родина – она даже не вся Латвия, она – твой дом, хутор, соседская дочь, поля вокруг, море в сотне километров, могилы у церкви и твой язык. И даже в тех, почти кощунственных, мыслях подростка, что Бог – также латыш... Я не идеализирую незнакомое мне прошлое человека в незнакомой стране. Труд землепашца, свободный и тяжкий, извечен, как и его мораль, его Бог, а языческое в них от близости к таинству плодородия. Иварс хотел жить крестьянином. Это был его мир на земле его семьи... Не министром, не полководцем, не командиром корабля, только лишь крестьянином... Но и это оказалось неосуществимым. Латыш и лютеранин Иварс Грабанс остался верен Богу и Родине и никогда больше не увидит Латвии.
Я не историк. Трагедия Латвии описана, известна. Судьба Грабанса – составная часть этой длящейся который год агонии. Здесь я пытаюсь понять жизнь одного человека, найти тот источник, где черпает он силы для сопротивления злу. Мир тогда был ясен и прост. Юность эгоистична, ее не занимают далекие политические катастрофы. Отец Иварса читал газеты, он читал вслух вечерами о нацистской Германии и репрессиях в России, но ведь это все было так далеко... Они не верили, и отец, и соседи... «Это уже слишком... Миллионы репрессированных граждан, тотальная коллективизация, голод, реки крови, выселения, Сибирь... Ну и фантазия у этих газетчиков!» Ведь это казалось таким далеким. У юности свои заботы. А потом умер отец. Земля требовала труда и времени. Тут не до политики. Грабансы никогда не были членами политических партий, ни правых, ни левых. Они знали свой дом, свою землю, свое дело. В этом и только в этом они видели смысл жизни своих дедов и своих детей, правоту прошлого и гарантию будущего.
Но в социальных катаклизмах не бывает посторонних, в 1940 году Грабансов «освободили». Мир, ранее такой знакомый и устойчивый, стал шире и страшнее. Тогда они поверили бы газетам, но тех, прежних газет, не стало. Иварс прекрасно помнит этот год исчезающих навсегда соседей, заколоченных домов, пустынных хуторов. Россия оказалась слишком близкой, она принесла страх перед «завтра», разрушение морали, смысла. Подробности этих «каприччо» известны. Вы помните, Герда, у Камю: «Я имел время обдумать все. Лучшее время для раздумий – ночь. А в наших городах и сердцах вот уже три года, как с вашим приходом воцарилась ночь. Вот уже три года, как в беспросветной тьме мы с болью думали, и вот теперь истина открылась нам»?
Ночь Грабанса длится и поныне. Истина, открывшаяся ему в 1940 году, горькая и жестокая. Она может быть высказана кратко, недвусмысленно и кратко: «Мы узнали, что иногда, как бы мы ни думали, разум бессилен перед мечом». (Я опять цитирую Альбера Камю, его «Письма к немецкому другу»). Меч «освобождения» разрушил мир латвийского крестьянина. Естественная, выверенная жизнью поколений, мораль земли и человека на ней оказалась хрупкой и беспомощной. Иварс не знал политики. Причины и закономерности истории были от него тогда скрыты, он, крестьянский сын, видел лишь результат, вещественный и запоминающийся в деталях. Первый офорт из латвийской «каприччо» занял год. Грабансов «освободили» вторично, уже немцы. Вы знаете роль Германии в прежней истории прибалтов. До 40-го года ее заслуженно не любили. Но офорт 41-го года показался менее страшным; свежа была память, свежи рубцы. Где-то дымили крематории, лилась кровь, а юноша Грабанс сумел избежать участия в бойне двух чуждых ему сил...
...Помилуйте, Герда, я – еврей, мое отношение к нацизму вполне определенное, прах моего деда Абрама Глузмана в Бабьем Яру тому порукой. Но есть и другой прах, в Сибири, прах тысяч латышей. Прах 40-го года. Я всего лишь объективен. Во время немецкой оккупации Иварс был крестьянином. Он жил на своем хуторе, зная о чужой ему войне, не зная истинных ее причин и целей, не зная о крематориях, заградотрядах и обоюдных концлагерях. Он ждал «завтра», в котором не будет ни «освобождений», ни войн, где в мире и повседневных трудах виделись земля Латвии и люди на ней.
В 22 года Иварс увидел: уединенный мирок стабильности и привычного труда последних лет был временным и иллюзорным. Хутор не был отгорожен стеною от большого мира, как и сам Иварс, потомственный землепашец, не был отгорожен от людей с их враждой, жадностью, войнами и политическими интригами. В сорок четвертом году трагедия Латвии стала и трагедией семьи Грабансов.
К ним вернулась советская власть, в то время нуждавшаяся, в первую очередь, в солдатах. Тридцать парней вызвали в районный центр, но только двое явились на призывной пункт. Не правда ли, показательные цифры: 2 из 30? Двадцать восемь молодых крестьян ушли с оружием в лес, они слишком хорошо помнили год 1940-й. Они не хотели умирать за Россию. От этого не отмахнешься. Так было: латвийские крестьяне не хотели воевать против Германии, нацистской Германии. Но почему? Все очень просто: они отнюдь не сожалели о близком конце рейха, они предвидели будущее Латвии, они не хотели умирать за Русскую Латвию... И я, иудей, их понимаю: из двух зол не всегда следует выбирать одно. Зло есть зло, и степени сравнения здесь бессмысленны.
Из любой объективно написанной книги по истории Латвии Вы можете узнать, Герда, как осуществлялась там «добровольная коллективизация индивидуальных крестьянских хозяйств». Закрывались церкви, истреблялась национальная интеллигенция.
Кровь, страх, неприятие новой власти вынуждали ранее аполитичных латвийских крестьян идти с оружием в лес, прятаться и ждать. И убивать врага: это была война, а на войне убивают. Тысячи мужчин покидали дома, семьи, оставляли неухоженной землю отцов и дедов.
Чего же они ждали, необученные войне крестьяне, с винтовкой и автоматом сопротивляясь танкам и орудиям регулярных частей армии-победительницы?
Я пытаюсь найти здесь «рацио», понять основания для надежды в такой безнадежной ситуации... Они верили потому, что без веры нет жизни. Они видели зло и пытались противостоять ему, и в этом – необъяснимая рациональность Высшего смысла жизни человека, без которой не было бы ни истории, ни самой цивилизации. Они пытались защитить свой дом, свою мораль, детей и землю. Жили в землянках, учились воевать и ждали, ждали...
Это – горькая правда, но это правда. Изо дня в день, в течение нескольких лет радио Запада убеждало их: «Ждите, уже скоро, очень скоро!» Они ждали, Герда, помощи от цивилизованных государств, так много обещавших, так много говоривших устами своих дипломатов о гуманизме, справедливости, демократии...
Их призывали: «Идите в лес, берите оружие, сопротивляйтесь, мы скоро придем к вам на помощь...» И они верили, как только могут верить крестьяне, землей и трудом своим приученные к искренности и содержательности слов, как могут верить люди, далекие от демагогии и двусмысленности политической игры. Их предали, Герда.
Уходя в лес, Иварс впервые взял в руки винтовку. Он учился стрелять, учился убийству, как раньше, в детстве, уходу за землей. С ними боролись регулярные части. Отрезали убитым головы, прогоняли толпы матерей и жен мимо сваленных под заборами трупов, пытали пойманных, арестовывали семьи, разрушали дома... Так погибла мать Иварса, 69-летняя женщина, вынесшая хлеб своим двум сыновьям, прячущимся в лесу. Да, Герда, Вам в это трудно поверить, я понимаю. Но и это – правда. Старая крестьянка, давшая хлеб своим детям, была арестована, она погибла где-то в Сибири, в одном из многочисленных лагерей. Никто не знает сейчас точного дня ее смерти, причины (голод? болезнь? побои? расстрел?). Один этот факт стоит всех моих рассуждений, он ясен и однозначен. Так, Герда, это было.
Двенадцать лет провел Иварс в лесу... Вскоре стало ясно, что Запад не поможет. Советская власть укреплялась, леса прочесывали каратели, исчезали последние надежды. А через границу уже не пройдешь, слишком поздно... Представьте: двенадцать лет звериной жизни в холоде и грязи, в изгнании на собственной земле...
Слабые не выдерживали, умирали, сходили с ума, кончали самоубийством, сдавались властям. Сдавались на расстрел или в лагерь. Сдался и брат Иварса, из лагеря он вернулся калекой, всего за три года, сейчас ютится в доме призрения, одинокий и больной. Сдавались не все. Обнищавшие, без веры в чудо, они оставались верны своей земле и Богу. Их предавали друзья и родственники, деморализованные, переполненные страхом за жизнь, ущербную, незавидную, но – жизнь. Их оставалось все меньше. Власти объявили: вышедшим из лесу будет прощение. Иварс остался. Он не верил в прощение без самоуничижения и активного сотрудничества с властями. Он не мог предать свою память, землю, страну, Все эти годы, не имея надежд, он жил памятью. Для сопротивления нужны силы, нужна уверенность, нужен смысл. И этот смысл был, смысл жизни и сопротивления в разрушенном и растоптанном мире. Его выражают лучше всего слова Камю: «В этом мире есть, во всяком случае, человеческая правда, и наша задача – показать человеку, что он может противостоять судьбе». И силы для этого, нравственные и физические, он черпал в памяти; как у Камю: «Наперекор крикам злобы и зверствам мы старались сберечь в наших сердцах воспоминания о спокойном, беззаботном мире, о заветном холме, об улыбке на милом лице!»
Разум был бессилен перед мечом. Разум справедливости и свободы, но не зоологического выживания в облике гамадрила. Через 12 лет их осталось трое. Это трудно представить: одиночки, двенадцать лет противостоящие гигантской тоталитарной системе. Не сумасшедшие, не фанатики, обыкновенные, не очень грамотные крестьянские дети, верившие в идеалы отцов, в Бога отцов, в свою землю и язык. Но уже не верящие в Латвию. Они знали: где-то рядом, в соседних лесах, осталось несколько таких же твердых и бескомпромиссных парней, таких же одиноких. В 1956 году Иварс вышел из леса. Вышел, хотя не верил в «прощение»; в дальнейшем сопротивлении не было смысла, как и в самой жизни. А покончить самоубийством он, христианин, не мог.
...Многие ломались именно тогда, уставшие, разуверившиеся люди, покорившиеся силе, они разоружались и духовно, идя на сотрудничество с новой властью. Их трудно упрекать, и на обочине жизни можно устроить свое маленькое индивидуальное счастье, иметь семью, дом. Они очень не хотели умереть в лагере...
Тогда же, в 56-м, Грабанса вызвали в КГБ. Он отказался «сотрудничать», отказываясь, тем самым, и от гарантии «прощения». В конце допроса ему сказали прямо: «Ты еще попомнишь, мы с тобой еще встретимся. И Грабанс ждал этой встречи. Отказывался «сотрудничать» и ждал. Не женился, не строил дом, не устраивал свое «маленькое счастье». Эти годы, я думаю, были самыми тяжелыми. Его арестовали в 68-м. Они поняли, что Иварс Грабанс не отказывается от своей совести. Этим он был опасен. Процедура была простой: один из агентов «добровольно» написал в КГБ, возбудили дело... и состоялась долгожданная встреча. Ее результат – 15 лет лагеря строгого режима. Теперь Иварс – «бандит» и «изменник».
Можно по-разному оценивать человеческую жизнь. Пища, минимальный комфорт, наконец, карьера – эти стимулы и цели ординарны и естественны; в них сегодня если не смысл, то необходимые условия жизни человека традиционной цивилизации. Я уверен в одном: все мы рождаемся не для того, чтобы становиться героями. С точки зрения филистера Грабанс – неудачник. Он не сделал карьеры; в 54 года не имеет своего очага, детей, потерял землю; в доме его отца давно живут чужаки. Он голоден, болен, он – в лагере... И его никогда не пустят назад в Латвию. Он ничего не добился, ничего не изменил... Страшная судьба, незавидная. Судьба Сизифа, вечно закатывающего свой камень.
Иварс Грабанс, несостоявшийся крестьянин, одинокий, исстрадавшийся, не стал мизантропом. Это удивительно... Трагедия тела не стала трагедией духа. И сегодня его не покидает вера; о себе и своих товарищах он мог бы сказать словами Альбера Камю: «Мы сохраняем любовь к человеку в годы трагедии разума и находим в этой любви неиссякаемый источник веры в будущее».
Я ответил, Герда, только на один Ваш вопрос, рассказал об одном человеке, с которым свела меня судьба, только об одном из многих. Я не случайно выбрал Грабанса. Иварс знает, что умереть на земле Латвии ему не суждено. И, если это возможно, он хотел бы умереть в Дании, на Вашей Родине. Сейчас это его единственное желание, может быть, последнее. Вдумайтесь, Герда, в смысл: он мечтает умереть среди свободных людей, в свободной стране. Трагический смысл.
Все спокойно в Королевстве Датском. Спит Хольгер-Датчанин, ваш защитник: в Дании мир. Крепко спит, в своем замке, на своей родине, не зная оккупации, крови, землянок и концлагерей... Пусть всегда будет мир в Дании, пусть вечно спит богатырь Хольгер.
И я прошу Вас, Герда, только об одном: помогите Грабансу. Его камень с каждым годом все тяжелеет. Помогите же ему, ради жизни, ради высшей справедливости, ради Бога, который у всех нас, людей, один. Помогите Иварсу Грабансу умереть в Дании! Иных просьб к Вам у меня нет. Спасибо Вам, добрая Герда, за память.
Пермский политлагерь ВС 389/35
 Завантажити файл (0.14 MB)
Завантажити файл (0.14 MB)






 ВСІ ТЕМИ
ВСІ ТЕМИ